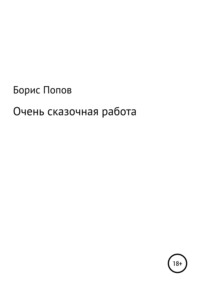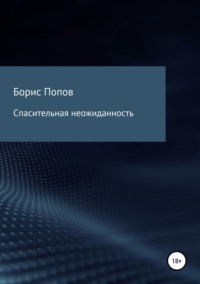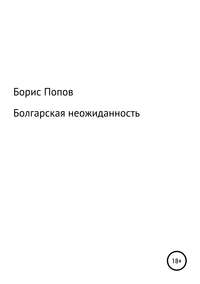полная версия
полная версияСтранная неожиданность
Олег обвел нас глазами, – может шутим? По нам было ясно, – ох, не шутим… И отломаем, и выткнем…
– Я…, я как лучше хотел… Давайте как-то уладим это дело…
– Можно и уладить. Речей пустых больше не заводи, слушайся командира, глупые выдумки выбрось из головы. В общем, сейчас тоже иди на улицу к месту сбора.
– А где у нас место сбора?
– Да где соберетесь, там вам и место!
– Что это он так о внешности своей сегодня печется? – спросил слабоватый в психологии я.
– На Танюшку-богатырку запал, – просветил меня туповатого Зигмунд Фрейд 11 века.
– Да ну! – не поверил всего трижды женатый я.
– Вот тебе и ну! Баранки гну! Как согну, дам тебе одну!
Фразу о трудоемкой работе с хлебобулочными изделиями Слава подцепил у неизвестного пришельца из 21 века.
– Как увидал сегодня этот обделенный последние годы женской лаской мужик, каким успехом пользуется только что избивший славную девушку Таню ушкуйник, так его и растащило! Хочется тоже чем-то блеснуть и урвать хоть кусочек богатырской ласки. А чем тут блеснешь? Битой рожей?
– Может и так…
– Воистину так, сын мой, – спародировал протоиерея весельчак боярин. – Правда сия велика есть, и трудно вам, сирым и убогим умишком своим, охватить ее всю! Истину тебе глаголю, сынишка, истину!
Слава богу, подумалось мне, хоть ненадолго отвлекся от мечтаний о юной рыжеволосой французской красавице старый черт, перестал падать духом.
Закончим тут дела, разберемся и с Бургундией, и с Нормандией! Покажем стране, будущей законодательнице моды и косметики, русскую удаль! И история тесных взаимоотношений Руси и Франции начнется не с наполеоновских войн и взятия попеременно то Москвы, то Парижа, а со скромной поездки русского боярина Богуслава, возможно с побратимом Володькой, аж в 11 веке в малюсенький городишко Мулен. (Жаль, что не в самое известное парижское кабаре «Мулен Руж», конечно…)
Хотя уже была Ярославна, королева Франции. И до нас русский князь Ярослав Мудрый поработал над выстраиванием хорошего для Франции династического брака французского короля Генриха Первого и своей дочери Анны, заливая в Капетингов, а потом через родство с ними, и в Валуа с Бурбонами, свежую русскую кровь.
И потомки Рюрика сидели на французском троне до 1793 года. Бурбоны во Франции и сейчас рвутся на трон, но страна, положившая начало удачным революциям против императоров и королей, пока их назад не допускает, ехидно напевая при этом «Марсельезу» Руже де Лиля, а русские эмигранты их поддерживают исполнением этого гимна Франции на русском языке в переводе Николая Гумилева:
Чего хотят злодеи эти,
Предатели и короли?
Кому кнуты, оковы, сети
Они заботливо сплели?
То вам, французы!
А в Испании вовсю царствует Его Величество Филипп Шестой из испанских Бурбонов, дальних родственников французских королей. И гордый испанский народ, вроде, не особенно умаялся от королевских кнутов, оков и сетей…
Греко-византийского имени Филипп до королевы Анны в Европе и не знали, и королей называли как угодно, только не Филиппами.
Но Анна была девушка образованная: говорила на нескольких языках, в том числе и на греческом, языке, равным латыни в Византии, а византийские идеи и в религии, и в образовании на Руси в 10 – 11 веках главенствуют. И как-то так само получилось, что строгий и властный 43-летний король Генрих Первый, абсолютный монарх, муж и повелитель для скромной 18-летней девчонки из неведомой Руси, своим высочайшим повелением назвал первенца Филиппом, а тот, после его смерти, оказался таким славным королем, что был сильно любим народом. И имя пошло в народ.
Только среди французских королей Филиппов было пятеро, а ведь имя пошло и в Испанию, и в Португалию. Как возьмут французскую принцессу замуж в соседнюю страну, так и жди малыша Филиппа наследником престола. А ведь это все – русский след, отголоски крови Анны Ярославны.
Правда, среди российских императоров Филиппов не было, и в народе остался известным и любимым только неутомимо рвущийся в школу толстовский Филиппок, которого добрый учитель выкидывал из этого очага культуры и образования с криком: задолбали эти крестьянские детки, а больше всех мелкий Филиппок! А все дети, вынужденные ходить в школу второй половины 20 и начала 21 веков Филиппку яростно завидовали…
– Жаль, я с вами пойти не могу, силы будто кровосос какой выпил. Так что иди к ватаге, и не посрами великого звания боярского! Правда, и боярин-то ты какой-то не очень, одно слово – свежесделанный. Смотри, не вернись, как волкодлак – побитый да ограбленный. Не забудь взять Марфу для усиления – отобьет вас от ворогов. Лучше бы тебе деньги здесь оставить. В общем, беги, сынку, старайся.
– Есть, дядя Слава! Не подведу! – подкинул я руку к мифическому козырьку не менее мифической фуражки будущей, но отнюдь в свое время не мифической славной русской, грозной советской и устрашающей российской армии. Мы всегда за мир во всем мире, но при необходимости можем и вздуть любого врага. А до фуражки еще несколько сотен лет всяких папах и киверов.
На улице уже все были готовы. Матвей вышел нас проводить.
– Если незадача какая случится, – негромко сказал он мне, – пошли за мной, придется этих гнид все-таки убить. Я вас потом где-нибудь за Киевом подожду. Валите все на меня, мол сами этого бандюгана впервые видим, среди них сидел. Имущество наше стали делить, видимо передрались между собой.
Я обнял его перед уходом.
– Спасибо, браток. На тебя всегда можно положиться. Как говорят арабы: лучшее лекарство – это огонь, а решающий довод в споре – это меч. Если я схожу и не вылечу, ты и один против пятерых не проспоришь.
– На досуге сходим в церковь, станем побратимами, – подытожил лучший боец нашего отряда.
– Ничего, что у меня уже есть один?
– Будет двое. И у меня будет вас двое, – про Ермоху-то не забывай. Если меня не станет – ему помогай. – Я кивнул. – Бегите. С нетерпением буду ждать.
И мы отправились на разборку с местными грабителями, а Матвей вернулся в обеденный зал стращать пьяных и особо наглых.
Стоило нам отойти от корчмы, как Оксана отманила меня от толпы, придвинулась к моему уху (мы с ней были почти одного роста) и горячо зашептала:
– Я слышала, что тебе этот, с саблей, сказал, на которого Танька тащится, ну тот, который ее прибил!
– И что?
– Я могу помочь!
– В чем? – удивился я.
– Если вас одолевать будут, я за бойцом быстрее молнии слетаю!
– А я за это время разбойников еще быстрее истреблю.
Худышку аж откачнуло.
– Ты тоже из ушкуйников?
– Нет. Но они меня учили.
– И бьешься прямо как они?
– Ушкуйники половчей будут, но обычный необученный человек не заметит разницы.
– Опасаюсь я вас, таких бойцов. Стукнет такому чего в башку, свернет мне голову, как куренку, и не перестанет даже любовью заниматься.
– Мы, новгородские, не такие, – успокоил я девушку. – Мы только для врагов опасные.
Она немножко посомневалась, но все-таки тяга к стяжательству пересилила страх. Оксана кокетливо мне улыбнулась и, как бы невзначай, сделала тонкий намек на толстые обстоятельства:
– Может потом с нами третьим пойдешь? А то дома жрать нечего! Если хочешь, я здоровяка прогоню, тебя одного оставлю. Только тогда это немножко дороже встанет, все-таки знатный человек – боярин, это не какой-то там хухры-мухры.
– Спасибо, обойдусь, – отмел я сразу оба предложения. – Не хочу я ласки чужой женщины, да еще и за деньги. Жену очень люблю, и изменять ей не стану.
– Зря брезгуешь. Чего ваши новгородки против меня? Звук пустой! Я тебе такую радугу устрою, до конца жизни вспоминать будешь Ксюшку искусницу и умелицу. Одарю, как в русской сказке.
– Ты как думаешь, сколько мне лет? – задал я героине многочисленных русских сказок вопрос на засыпку.
Она сходу и засыпалась.
– На вид лет 25-30, но кто вас бояр знает, может какие особые растирки у шведов или немцев покупаете. Самое большее – 35.
– А мне 57. Мы с боярином Богуславом погодки. И не вот что я провел праведную жизнь в постах и молитвах. И работал день и ночь, бывало голодал, мерз, тонул в ледяной воде, в водке и жратве себе не отказывал, и помотало меня по разным городам и даже странам, а особо не постарел. А почему?
– Почему? – эхом отозвалась киевская развратница.
– Потому что женщин в моей нелегкой жизни всегда было вволю. Очень был охочий до баб. Помоложе был, сшибал влет, как тетерок, мне все нравились. Старался ни одной не упустить. Но никогда женщину не покупал, нигде и ни разу. И за долгие годы такой жизни навидался этаких изысков, и напробовался этаких чудес, каких ты и не видала, и не пробовала. А о чем-то может и думать боишься, прячешься ночью в кроватке под одеяло.
– Расскажи и покажи! – загорелась ударница старейшей профессии, – делай со мной что хочешь! Чего хочешь перетерплю и стерплю, все твои причуды вынесу! Денег не надо, да чего там, мамкину прялку продам, и сама тебе заплачу! Только не отказывай в невиданной ласке! Рабой твоей буду! Ноги тебе буду мыть и воду пить!
Девица увлеклась и кричала о своих эротических мечтах на всю улицу. Особенно красиво звучала история о намерениях сбыть матушкину прялку. Всегда приятно видеть увлеченного своим любимым делом человека.
Но на нас уже озирались прохожие, и мои бойцы глядели удивленно – как это я этак ловко раскрутил прожженную жизнью деваху, которая уже не боится ни бога, ни черта, и на которой, казалось клейма поставить было негде. И, самое интересное, так быстро! Особый боярский стиль, голуби мои, это вам действительно, не какие-то там хухры-мухры!
Ладно, хватить веселить столичную публику, на серьезное дело идем. Пора пресекать работницу топчана и кушетки, ловкую киевскую тварь постельную.
– Переставай беситься, ничего у меня с тобой не будет. Не запала ты мне в душу, не увлекла. А я жену неистово люблю, и изменять ей со всякой дешевой подстилкой не стану. Вон мальчишкой пойди займись – больше пользы будет.
Оксана встряхнулась всем телом, как уличная псина после ливня, сбросила с себя боярское наваждение, и, похабно покачивая и виляя бедрами, отправилась дальше прессовать молодого. Вновь послышался ее нахальный и уверенный в себе говорок:
– Да пошутковали там с вашим боярином, не бери в голову! Пока я с тобой, буду к тебе только привязана, как верная женка!
Парень тихо млел. Мир и спокойствие озаряли наивную богатырскую душу ласковым светом первой серьезной привязанности к женскому началу.
А я, глядя на эту идиллию со стороны, еще раз уверился, что даже если бы в моей жизни не было Забавы, на этот киевский сухостой не позарился бы ни за что! Как выражались в 20 веке хохлы о приятной женской фигуристости: берешь в руки, – маешь вешь! А у этой худобы за что прикажете браться? За рубильник носа? Больше, вроде, не за что. Вся плоская! Подиумная модель 11 века, понимаешь ли.
А рядом влюблялись еще два ласковых голоса.
– Эх, не повезло мне с рождения, не дал бог фигурки красивой! На что мне силища дикая, если ни одному мужику никогда не нравилась.
– Но есть же у тебя сынок, значит полюбилась в свое время кому-то.
– Только не помню кому. Ксюшка, шалава, заволокла как-то по юности на берег Славутича, пристроились к взрослым мужикам. Те по пьянке и рады стараться, – налили водки, как себе. Я было отказываться, сроду не пила до этого, а Ксюшка за рукав дергает: не позорься, не обижай мужиков, они от всего сердца налили. От нас с тобой парни шарахаются, кобылами дразнят, так хоть с мужиками по-человечески посидим, с нас не убудет. Я, дура молоденькая, и шарахнула. Аж света белого не взвидела! После этого ничего и не помню. Заволок, видно, кто-то в кусты и по пьянке оприходовал. Может и всей толпой отличились, падкие до землянички оказались. Потом хвалиться перед другими: да я до сих пор девок порчу, мне еще сносу нет. Не гляди, что седоватый – седина в бороду, бес в ребро. Вот так девичьей невинности и лишилась. С подруги-то не убыло, она уж с год перед каждым встречным-поперечным ножонки-то раздвигала, успела уже и плод вытравить. С той поры не беременеет. А я, наивная глупышка, враз и залетела. Как взялись и мать, и всякие родственницы, тетки да бабки, меня долбить! Мы уж бабку-травницу нашли, выпьешь ейные корешки и травки – враз скинешь! Есть знахарка, отомнет тебе пузо в бане, горя знать не будешь! Не дала я им ничего с Максиком сделать, не позволила кровинушку мою убить. Как обозлили окончательно приставаниями своими неразумными, сунула им под нос кулачину и пообещала: кто еще на дите мое посягнет, пришибу! А сила моя уже была известна. Пошушукались, пошептались между собой эти кумушки, да и разбежались. А сейчас сыночек мой золотой каждый месяц зримо подрастает, крупнеет, и делается все более сильным. Даст бог, унаследует силушку мою богатырскую. Не пришиб бы только кого из ровесников по малолетней неразумности. Не умеет еще соразмерить силу удара с нуждой в нем, горячится дитя неразумное. Он единственная радость моей жизни.
– А мужчины нет что ли рядом? – как-то слишком заинтересованно спросил Олег. – Ты же целый день на виду, посетители, поди, толпой возле тебя вьются, манят кто-куда.
Таня горестно вздохнула.
– Вот и я спервоначалу так думала, потому и польстилась на эту гнилую службишку. Думаю себе: плевать, что платят гроши, хоть мужичком обзаведусь. Пусть немолодой будет, бедный какой-нибудь, некрасивый, словом завалященький, плевать – лишь бы мой, и был при мне! Я уж и так, и эдак, и красилась всячески, и одеколонами поливалась – бесполезно. Одеваться взялась, в кокошнике да в душегрее красовалась – никому не нужна, никто не польстился. Взялась просто пьяных к себе утаскивать, самых плохоньких выбирала, дрянь из дряней пыталась подобрать. Пока пьяненькие, все более– менее, – валяются, жрут да пьют за мой счет, иногда, правда крайне редко, и в постель с собой зовут. Танюшка, Танюшка, дай то, дай это. А как отчухаются, протрезвеют, и поминай как звали! Из троих еще ни один не вернулся, не объявился никак. Будто всех троих черти с квасом съели! А уж как я с ними гаденышами сюсюкала, как ублажить пыталась! Никакого проку нету! Никому не нравлюсь!
– Мне нравишься.
– Это ты так, в шутейном разговоре, просто чтобы девушку уважить? Чего во мне нравиться то может? Толстенная и грубая коровища, да еще с хвостом – неведомым мальчишкой, неизвестно от кого прижитого?
– Мне все в тебе нравится: и как говоришь, и как ходишь, и руки твои красивые. Жаль, ноги еще не видел – тоже, поди, красота неописуемая.
– Это у меня-то?
– У тебя, конечно, у кого же еще.
– Ты может, унизить глупую бабищу решил, надругаться решил духовно над одной из столичных шлюх? Гляди, я ведь и пришибить могу! – она совала оборотню под нос дрожащую кулачину.
Голос тоже дрожал. Тут все было ясно, – на девушку внезапно обрушилось невиданное, огромное счастье, а она боится поверить, ошибиться в очередной раз… Эх, я бы ей сказал… Только нельзя сейчас чужому вмешиваться, как уж бог даст… И Бог дал! Олег уверенно поймал руку богатырши, прижал трясущийся кулак к своей груди, поцеловал его, и нежно сказал:
– Танюшенька моя дорогая, я прошу у тебя руку и сердце моей единственной любимой женщины в этой жизни – твои. И прошу, не отказывай! Я, конечно, уже немолод…
Девушка, не дослушав, вырвала толстенную ручищу, зарыдала и унеслась. Ошарашенный Олег растерянно озирался.
– Я чего-то не то сказал? Обидел чем-то? Говорил я, синяк надо убирать…
– Не волнуйся – успокоил я волкодлака, – сам с богатыркой живу, видал такие виды. Это в ней силушка богатырская взыграла, потребовала выхода. Сейчас кружок по Киеву даст, лишняя сила в землю уйдет, и назад прибежит.
– А если не понравился я ей? По сердцу не пришелся?
– Значит еще скорее от женского любопытства назад прибежит, никуда не денется. А там еще поговорите, глядишь дело-то и сладится.
– Может за ней бежать?
– И думать не моги! Стоишь и стой до последнего. Покажи свою верность Татьяне. Надо будет – до ночи стой, надо – до утра это место карауль!
– Да мы, вроде, по делу идем…
– Наплевать на эти дела! Надо будет, и без тебя сходим, не задастся чего, бросим и думать об этой мелкой дряни. Одену, обую тебя завтра, дела переделаем, да и уберемся из стольного града Киева. Или ты это так, над девчонкой просто изгаляешься? Превосходство свое показываешь?
– Да ты что! Влюбился вдруг без памяти, места себе не нахожу! Только о ней и думаю! Ждать буду.
Поглядел ему на грудь – мощно полыхал оранжевый факел любви. Не играет мужик, не рисуется – вляпался конкретно. И не за постельные утехи борется, душа его к Тане просится.
К нам подошли уже обнявшиеся Емельян и Оксана.
– Часто она так бегает?
– Бывает.
– Надолго исчезла?
– Самое меньшее на полчаса. Бывает, что и по два часа нету.
– Ждем час и уходим.
– Нам бы отойти…
– Куда вам переться? Ищи вас потом по всему Киеву! – жестко пресек я молодежь, заглянув в их затуманенные поволокой желания глаза. – Тут валите!
– Посреди улицы прямо уважите девушку? Я-то, конечно, потерплю, можете прямо втроем отличиться, но Емеля может не потянуть. Молод еще. Первый раз желает один и в некоем уединении…
И такие наглые песни после моих рассказов о том, как я люблю свою жену! Думает, что я, нарассказывав о своей необычайной любви, подамся вместе с первой попавшейся шлюшкой повеселиться? А говорит уверенно, значит бывали прецеденты? Эх, кобели средневековые, проституты феодальные…
А неплохо было бы нам с Олегом с двух сторон эту горячую киевскую девчушку прямо посреди улицы начать баловать, покрякивая от удовольствия, и тут с разных сторон выпустить богатырку Забаву и богатыршу Татьяну. Какие отбивные получились бы из двух новгородских котов помойных! Просто было бы любо-дорого взглянуть на эти кулинарные изделия!
– Стойте здесь! – рявкнул я, – счас уединитесь, … вашу мать!
Я подошел к ближайшей калитке в глухих окрестных заборах, и начал ее остервенело пинать. Пора заканчивать общение со всякой киевской поганью! Шутки стали похожи на их образ мышления, и я начал ругаться матом, что запрещаю себе делать даже в мыслях уже лет десять!
Дворовая собачонка остервенело залаяла, но не получая подкрепления в хозяйском лице, обреченно завыла. Такой и застал эту дивную картину домохозяин, все-таки высунувшийся из избушки: калитка ходит ходуном так, что кажется, будто в нее бьют тараном, а псина чует неминуемую скорую гибель и потому воет.
Неожиданно завыла в тон зазаборному неведомому другу и Марфа. Вот от нее то уж совсем не ожидал! Алабаи и лают то редко! Может там у них помер кто-то? Неожиданно заинтересовался новыми звуками Олег, и как-то паскудно тоже начал подвывать. Собачий лай я перевожу легко, а вот понимать их вытье как-то еще не сподобился.
– Тихо, тихо, вилк! – попытался унять хозяин своего психопата, – кого там черт принес?
Новые рулады от всей троицы зазвучали во всем блеске.
– Друзья? Откуда у нас тут друзья? Я здесь поляка ни одного не встретил. Только если к тебе из лесу родственники подошли с визитом.
А ведь он говорит по-польски, осенило меня. А вилк – это волк! Мой внутренний переводчик просто не озаботился мне сообщить, что автоматически включился в работу и звучит речь наших двоюродных братьев-славян. А языки еще так похожи, что я понял бы и без перевода.
Загремела щеколда и широко распахнулась калитка.
– Матка Боска Честоховска! – заорал вышедший к нам двадцатилетний красавец, высоченный и видный поляк, – наши пришли! Захарий! Хлопцы! Выбегайте все скорей! – и сгреб меня в стальные объятия.
Тут и я опешил. Откуда в Киеве наши? Что это за польская диаспора? У меня в роду и украинцев-то с белорусами сроду не водилось, про каких-то иностранцев никто и не заикался. Никаких поляков я и в Новгороде то не видал, да и в прежней жизни не встречал.
Знакомство было шапочным, по талантливым польским фильмам, да по безмерному моему уважению к великому полководцу времен Великой Отечественной Войны маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому.
Из дома высыпали человек пять во главе с могучим седобородым старцем, и все – волхвы! Старейшина подал мне широченную ладонь, жесткую как лопата.
– С прибытием, брат! Я – Захарий, бывший учитель новгородского Добрыни. Яцек, да отпусти ты человека! Измял, поди, всего, медведь ты польский!
Глава 12
В моей слабой головушке наконец-то все сложилось. Великий волхв Захарий, которого мы с Богуславом планировали поискать завтра, неожиданно нашелся сам, да еще с оравой сподвижников. Вот они-то и наши! А поляк, конечно тоже волхв, на консультации в киевскую научную школу прибыл. Волхвов я теперь определял безошибочно, уверенно отличая черных от белых – Антекон 25 постарался.
Народ был горячий, в основном молодой. Они хлопали меня, освобожденного из дружеских тисков объятий Яцека, по плечам, спине. Хорошо, что никто не догадался сильно хлопнуть по голове! Голову жалко, я ей работаю. От поцелуев отказался сразу, дерзко заявив:
– У нас в Новгороде это не принято!
Не любитель я с мужиками целоваться, ох не любитель. Провинциал, одно слово.
– Что за люди с тобой? Оборотень-то еще так сяк, вдруг куда понадобится, а эти, парень с девкой?
Я вздохнул. Пока понадобились мы оборотню.
– Меня Владимир Мишинич зовут.
– Мы знаем! – крикнул кто-то из молодых, – Добрыня нам сообщил! Завтра-послезавтра только тебя ждали.
– Парня с девушкой мне пристроить куда-нибудь на часок надо. Хозяин кто этого двора?
Высунулся чернобородый здоровяк постарше остальных.
– Я хозяин, Павлин звать, – прогудел он. – Чем могу помочь?
– Какой-нибудь свободный сарай или сеновал есть?
– Есть, как не быть. На сеновале, кроме сена, ничего больше и нету.
– Заведи туда на часок этих двух ухарей, – обрадованный решением шкурной проблемы я показал на Ксюшку с Емелей, – заплачу, сколько скажешь.
– Маме своей заплати, за то, что тебя такого умника, родила. Мы с брата-героя, который всю Землю защищать идет, жизнью на каждом шагу рискуя, никогда копейки не возьмем. Не надо нас, киевских волхвов, оскорблять. Скажешь завтра с тобой умирать надо пойти, все пойдем. Так, братья? – он оглядел молодежь.
– Так! – слаженно рявкнули волхвы.
– А вы идите за мной, – рыкнул борода богатырю с девицей и повел их на сеновал.
– Ну а мы в дом, – потирая ладони друг о друга, добавил Захарий, – нечего тут на виду ошиваться. Волкодлака с собой берешь?
– Пусть возле двора покараулит, – отмахнулся я, – ему есть чем на улице заняться.
– Твоя интересная собачка уже столковалась с моим Горцем, думаю, такую подругу он не обидит, – улыбнулся Яцек.
Длинношерстный, белый с черным носом и кончиками ушей, Горец вдруг внятно провыл:
– Угуу, хозяиуун, неуу обижууу…
Вот и я этот собачий вой начал понимать.
– Ты же, вроде, его вначале волком звал? – спросил я Яцека.
– Это я в шутку его так зову. В их жилы, татранских подгорных собак, или подгалянских овчарок, много волчьей крови добавлено. А кличка его Горец. Мы с ним почти от самых Татр пришли, недалеко от Кракова живем.
– В дом, в дом, хватит тут, на юру, болтать! – оборвал нашу кинологическую беседу Захарий, – там и поговорим…
– И польской зубровочки выпьем, – задорно влез Яцек…
– И закусим, чем бог послал! – прогудел Павлин, затолкавший уже нашего похотника со столичной беспутницей (вот как мне надо мыслить – церковно– пристойно, а не похабно-погано, как прежде!) на сеновал, который с сегодняшнего дня, после того, что там сейчас начнет твориться, уместней будет называть сеноповалом.
Мы прошли, присели за широченным столом, который супруга Павлина махом прикрыла праздничной скатертью. Галина Дормидонтовна, сноровисто накрывала на стол, принося кушанья с кухни с невиданной быстротой. Заминка у нее произошла всего один раз.
– Павлик, – смущенно спросила она мужа, – а водку какую подавать: обычную нашу, или желтенькую польскую?
– Желтенькую тащи! А кончится – и нашу употребим! Все кончится – нерадивых хозяек вон со двора!
– Ой, ой, ой – забоялась замордованная зверем-мужем средневековая русская домохозяйка, – как бы тебя самого, этакого видного краснодеревщика, на дрова под шумок не пустили!
Но, чтобы не дискутировать на пустом месте, принесла и нашу огненную воду, и польскую зубровку. В общем, пока еще Польша не сгинела, да и Русь-матушка не подкачала, наливай!
Выпили, неплохо закусили. Да, хорошо. Потом главарь удалил всех моих новых киевских, и таких еще молодых родственников, словами:
– Рановато вам еще кое о чем слушать.
Кроме него, естественно, остался я, как главный докладчик, Павлин, как хозяин дома и второй по старшинству в команде, а также, по непонятной причине, Яцек. Когда поляк выскочил из комнаты по малой нужде, я спросил о причине такого привилегированного положения иностранца.