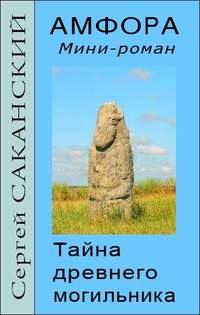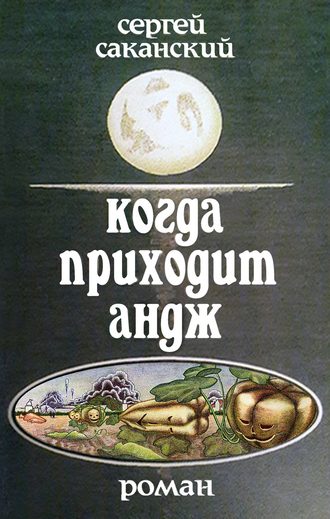
Полная версия
Когда приходит Андж
Инструмент Мэла Плетнева был глухим. Мейстер Сакварелидзе изготовил плоскую, размером чуть больше компьютерной клавиатуры, доску, в которую были врезаны выступающие клавиши, их легко было нащупать, но вовсе невозможно нажать. Каждая клавиша соответствовала определенной ноте, полулежа в кресле, Мэл клал инструмент себе на колени и, водя по клавишам пальцами, внутренне слышал или, вернее, воображал свою волшебную музыку.
Дверь была заперта, тишина… В тишине было слышно лишь глубокое дыхание музыканта и легкое постукивание ногтей о деревяшку, но это была неведомая, фантастическая, феерическая музыка, и лишь один человек в мире слышал ее.
Анжела стучалась тихо – пять коротких телеграфных стучков в размере три четверти. Девушка разбежалась и прыгнула, запрокинув ноги ему за спину. Мэл отечески похлопал ее по плечам.
– Я очень скучала за тобой.
Она восседала у него на коленях, его мысли метались в знакомых читателю пространствах, он машинально поглаживал ее бедро, внечувственнно, как бородач теребит бороду, его слова были бездумным отражением ее слов:
– Да?
– Да. Я каталась на лыжах в горах, у нас там зимой бывает снег. А в прошлом году был снег и внизу, мы катались на санках по улицам, а один Лешка – он даже спустился на горных лыжах с Ай-Петри, мимо Тюзлера и Учан-Су, вылетел на Советскую площадь и лихо развернулся у сучьего дома, правда, потом лыжи пришлось выбросить, потому что там кое-где торчал асфальт.
– А я считаю эти катания пустой тратой времени.
– Да?
– Да.
– А на что же вы тратите свое бесценное время, милорд?
– Так… В жизни есть дела поважнее.
– Ты, наверно, пишешь роман? Я угадала?
– Какая ты догадливая.
– А можно примазаться к твоей славе?
– Только посмертно.
– Не говори так. У нас во дворе был мальчик, его потом в горах нашли, в обвале, так он тоже написал роман. Между прочим, он его мне посвятил… Бр-р! Какой был гнусный роман – там всю дорогу только и делали, что пердели, как в фильмах Феллини, да беседовали о строении Вселенной, честное слово, пятьсот страниц сплошного пердежа и какой-то странной, душераздирающей философии… Вообще, этот роман как будто бы медленно сходит с ума: герои говорят совершенно не характерные им речи, меняются местами, репликами, причем, безумие его совершенно уникально – каждый читатель, в меру своей испорченности, находит свою, индивидуальную точку безумия… Эй, ты не заснул? А ты знаешь, что Вера Лемурова пишет стихи?
– Да ну?
– Ну да! Очень дурные стишки про чувства. Она у нас трагическая женщина.
– Ну ее на фиг.
– Правильно. У нас есть много о чем поговорить, кроме нее. А откуда ты родом, Мэлор?
– Из Стамбула.
– Не смешно. Ты турок?
– Нет, правда, я родился в Стамбуле, где мой отец был полпредом. Мы даже жили полгода в Италии.
– Правда? Расскажи.
– Скучно. Эмигранты едят бананы. Есть обычные, есть круглые, есть маленькие, словно пиписьки, а нам присылают зеленые, кормовые.
– А я никогда не ела бананов.
– Как?
– Так. В Ялте их не бывает, а в Москве денег нет.
– Может, ты и апельсинов не ела?
– Ела недавно. Под Новый Год. Слушай, этот Пурся хотел меня трахнуть под бой курантов. Набей ему морду, а?
– Непременно. Только найду предлог.
– А ты просто – вызови его на дуэль.
– А если убью?
– Отсидишь и вернешься. Я буду тебя ждать, я верная. Да не улыбайся ты так кисло, будто лимон схавал! Я пошутила. Пурся уже получил свое.
– Да? Кто же это постарался за тебя?
– Я сама. Охуячила его хрустальной вазой. Я ведь девушкой была, неужели ты так и не понял?
– Понял.
Анжела мягко взяла его руку и положила себе на грудь. Изо рта у нее так ужасно, так нестерпимо пахло, что Мелу захотелось украдкой, беззвучно пукнуть, чтобы хоть поменять запах…
– Я теперь очень спокойная, потому что у меня есть ты.
– Я тоже.
– Знаешь, мне жизнь казалась совершенно бессмысленной.
– Она и так бессмысленна.
– Нет. Жизнь – это другие. Когда ты один, ее просто нет. Я всегда была одна и ждала. Я даже ни разу не поцеловалась.
– Трудно представить.
– Отбивалась руками и ногами. Потрогай меня здесь… А однажды меня хотел взять старик.
– У меня тоже в детстве была девочка, которую взял старик.
– Ну? И что с нею стало?
– Она умерла.
– Из-за старика?
– Нет, это совсем другая история. После расскажу… Тебе не жарко в этой зеленой кофте? Да. И это сними.
– Ах, ты родной мой! Какие же у тебя добрые глаза, какой ты большой и теплый, живой… Я так люблю тебя, Андж!
– Андж? Ты назвала меня Анджем?
– Прости, оговорилась… Я вспомнила брата.
– У тебя есть брат?
– Лейтенант КГБ. Только никому не говори.
Мэл внутренне захохотал, будто из-за шторы выглянуло и сразу спряталось какое-то смехотворное лицо.
– Почему ты улыбаешься? – капризно спросила Анжела. – Между прочим, он у меня очень ревнивый. Его мечта – удачно выдать меня замуж.
Мэл покраснел. Он увидел гнусную картину: зловещий брат в голубом мундире коротким ударом плеча швыряет его на стул и, тыча ему в грудь пальцем, скупыми фразами наставляет в будущей семейной жизни. Свадьба в закрытом распределителе, родственники, старые лысые в штатском, Стаканский заводит свою песню о Сталине, двое из гостей переглядываются, Мэл понимает, что он уже ничем не может помочь другу, вдруг мелькает отдаленная надежда…
– А где он служит? – с самым безразличным видом поинтересовался Мэл.
Внезапно все перевернулось, звеня медалями: крепкая волосатая лапа в органах, жертва сама становится судьей… Анжела высокомерно рассмеялась:
– Трудно отвечать на такие вопросы!
Несколько секунд Мэл ее ненавидел, затем снова вернулась чувственность, нежность. Он вспомнил подколенные ямочки за черными колготками, утреннее возбуждение, метроном на крупных ягодицах, рука его заскользила по ткани, по-хозяйски нащупывая пуговицы. Боль в паху стремительно нарастала, но зуд ее был сладок в предчувствии близкого разрешения. Мэл был одним из тех немногих мужчин, способных испытывать мощнейший, длительный, чисто женский оргазм, правда, за сей редкий дар ему приходилось расплачиваться мгновениями мучительной боли…
Погружаясь в это незнакомое, опять новое тело, Мэл вдруг недовольно поморщился: не будет ли это повторяться каждую ночь?
(Ты во мне, ты во мне, ты во мне! – с восторгом причитала девушка. – Пива мне! Пива мне! Пива! – слышалось ему, и он улыбался, думая, как расскажет об этом другу…)
На самом интересном месте, в самый момент его слабости, вдруг требовательно и громко постучалась Мышь. Анжела заговорщически захихикала, в то время как Мэл уже высунул язык, начиная все громче стонать…
Потом, когда он отдыхал, Анжела приподнялась на локте (Луна или лампа сквозь окно красила ее лицо в молочнобелый цвет, она безнадежно кого-то напоминала…) и вдруг поведала ему великую тайну.
– Я пишу стихи.
Мэл искренне удивился:
– Давно?
– Не очень. Даже очень недавно. Короче, сегодня ночью и дебютировала, после тебя.
Она вдруг проворно встала и принялась одеваться. Мэл вежливо отвернулся. Ему нравилось, что она уходит.
– Вот, – сказала Анжела, положив на стол листок и выразительно припечатав его ладонью. – Теперь вы все обо мне знаете, милорд.
Едва за ней закрылась дверь, Мэл подошел к столу и врубил лампу. Он сам болел стихами, стыдился этого недуга и никому не показывал опусов, лишь однажды Стаканскому-старшему, который профессионально раскритиковал их, именно и употребив эти смехотворные словечки: недуг, опус, болеть…
Восьмистишие было написано жирным синим фломастером, строчки, не умещаясь на листе, сползли книзу, в правом верхнем углу было посвящение – М.П.
Сначала Мэл ничего не понял, но, перечитав, убедился в полной бездарности опуса. Как ни странно, М.П. ему польстило: он чувствовал то же, что чувствует девочка, когда ей впервые в жизни дарят цветы. Рядом лежала большая фотография, где была изображена запутавшаяся в собственных волосах Анжела, на фоне каких-то гор. На обороте стояло: «Ветер…» – очевидно, название снимка. Мэл вгляделся в лицо девушки, и вдруг оно переменилось: из-под разбросанных Анжелиных волос на него посмотрела другая девочка. Мэл бросил фото на стол и, словно в романе, трагически хлопнул себя по лбу. Голый трагический человек с хлопком по лбу выглядел в зеркале весьма забавно.
Оллу, маленькую давнишнюю Оллу, которую Мэл в детстве до смерти напугал, напомнила ему фотографическая Анжела.
12
Мэл Плетнев был родом из Санска – не Петербурга, Обояни, Стамбула, не из Тамбова даже – не из какого-либо существующего города нашей необъятной, ее европейской части – из Санска, и это было почти неприличным, звучало несолидно, даже слегка похабно.
Опустим длинное и противоречивое описание этого уездного городка, достаточно сказать, что Санск стоял на обоих – высоком и низком, зеленом и желтом – берегах Шумки, что придавало городу аномальность, ступенчатость, блеск.
Я говорю о многоэтажности одноэтажных зданий, соперничестве зеркал во владении вечерним солнцем по вертикали, когда Мэл, бывало, возвращался домой из школы, перемигиваясь со знакомыми окнами – теплый весенний вечер, вода и снег сливаются в кощунственную аморфную мздру.
Был ли кто в этом городе счастлив? Когда-либо?
Шумка огибала невысокий, но ярко выраженный холм, он был разрезан оврагами, на овражьих склонах (хотелось сказать: лепились) санские домики – внутреннее содержание города, а досужему путешественнику могло бы показаться, что улиц в город вообще нет, но поскольку городов без улиц не бывает, улицы в Санске все же существовали.
Широкая и длинная, почти прямая в плане, но горбатая вертикально, улица К.Маркса разрезала холм или Лысую гору (как в далеком, догородском прошлом ее нарекли) на две одинаковые половины, а поперечные, кривые во всех измерениях улки, струились вниз, – таким образом, пассажиры аэробуса ИЛ-86, бездарной, плохо задуманной и кое-как построенной машины, один раз в день выполнявшей рейс Ленинград-Ашхабад и обратно, всегда с ужасом высовывались из иллюминаторов, поскольку им казалось, особенно осенью, что у излучины реки лежит гигантский, весь в опухолях и язвах, обнаженный человеческий мозг.
Два узких моста связывали его с пойменной частью города, раз в несколько лет, в период дождей, заполняемой водой. Здесь было все по-другому. Прямые, словно натянутые, улицы и проспекты. Двухэтажные дома с колоннами и львами. Статуи в общественном саду. Южной Пальмирой иногда называли Санск его жители, игнорируя основной нагорный район. Нижний город был построен по петербургскому образцу, александрийским способом… О-да, мы были когда-то счастливы!
Особенно темными зимними вечерами, когда Мэл, крадучись, возвращался от… Впрочем, не надо, – его душа пела, ноги гудели, он чувствовал себя настоящим мужчиной.
Кто из нас не брался за эти случайные ночи, останавливая словом жест чьих-то хладеющих рук? Когда героиня не так уж важна – есть только ее отдельные черты, локон на плечо… Без будущего, словно стихотворение пишется в самый момент происходящих событий, в глуши, во мраке. В данном случае (Мэл Плетнев, Санск) в игре принимал участие низкий дом с голубыми ставнями, с камином, светящим в углу, как телевизор, притупленные собачьи голоса за стеной… Мэл бросал в огонь собственной наколки сосновые поленья, свеча горела на столе (перебои с электричеством) оба смотрели в открытое пламя, большое и малое, свеча дивно заполняла комнату, босоногая возлюбленная шлепала в сени, гремела ведром, тихо материлась, спотыкаясь об нечто, а Мэл, как и положено юноше в такие минуты, лежал, вытянувшись, и млел, что заключало в себе и предчувствие конца романа, и навсегда покинутый Санск: я буду жить долго-долго, и много пока еще не знакомых женщин, и т. д. В комнате нелепо пахло смолистым костром, и в последующие годы, глядя на образцы различного пламени – костер, пожар или спичка, до предела сгорающая меж пальцев, хитро загибающийся вверх угольный остов, – Мэл вспоминал свои первые впечатления, свои неумелые судороги – одно, на всю жизнь тайное значение огня.
Улицы Санска не освещались, т. е. ввиду аварий на городской атомной электростанции, время от времени, а зимой почти каждый вечер, во всей округе гасли фонари, – на ощупь совершал Мэл свой фаллический путь туда и обратно.
Окна озарялись свечами и керосиновыми лампами. Медленно активизировались городские собаки. Сначала один, робкий сонный песик тихо тявкал невдалеке от Мэловского сапога, и тут же разворачивалась цепь немного впереди по другой стороне улицы, и – пока маленькие шавки вставали с безнадежным подвыванием – хозяин все еще разворачивающейся цепи глухо бэхал, тем самым давая сигнал небольшому аккорду собачек средней величины. Цепной реакцией лай взбегал вверх по Ореховой улице, стремительно разливаясь в боковые переулки – Отрадный, Дунаевского, 3-й Мощеный; какое-то время по звуку можно было отраженно вычислить ночного пешехода, затем, – наверно потому, что по разным склонам Лысой горы пробиралось сразу несколько человек, ночных возвращенцев, – лай захлестывал весь верхний город, гулял и пульсировал, взлетал и падал, но стихал внезапно, потому что вдруг давали свет: он быстрорастущим кругом, со скоростью тока в проволоке, опалял город, мельчайшие фонарики проникали в самые потайные уголки садов, где-то внизу медленно укладывалась невидимая цепь, гигантское бэхало ложилось спать, Мэл червяком влезал в щель тяжелой скрипучей калитки, шуршаво поднимался по деревянной лестнице, легко, невидимо проникал в свою комнату и ложился, невидимый, запретный, потому что ему тогда было пятнадцать, а ей тридцать шесть, мать думала, что Мэл не курит, он отлично учился в школе, детские прыщики на спине, удил рыбу на мостках за домом…
Олла, юная несчастная Олла сгубила его.
13
Дом был для Мэла данностью, то есть, он не помнил, как и когда впервые открыл какие-либо существующие детали дома, но зато убедительно помнил, как видел детали, которых у дома нет.
Например, раз в рубашечке и босиком Мэл выбежал на каменный пол и – шлеп-шлеп-шлеп – в какой-то темнозеленой сводчатой комнате увидел, как «дед» (в кавычках, потому что все же прадед) в чудесном звездном колпаке с кисточкой склонился над шипящим устройством… Зажмурившись, Мэл втянул острый воздух, симметричный растительному, и это было первое в жизни опьянение, дальнейшее – молчание, в том числе и последующий сон, не помню. Он видел женское лицо, именно женское, а не лицо вообще, значит, в ту ночь его падение полностью завершилось.
The rest is silence…
Второй существенной деталью дома (из тех, которых не было) была невысокая, даже очень маленькая – так что потолок можно было достать руками (причем обеими ладонями сразу) темная камера, куда Мэла вводили, если он шалил.
В камере стоял большой ночной горшок, он был уже полон, тусклый свет просачивался в щели между стенами, полом и потолком, чтобы в абсолютной темноте ребенок не пропустил самого главного, интересного – момент, когда начнется это.
Оно начиналось обычно с тихого несущественного звука, словно некто подходил к двери, которой, впрочем, в камере уже не было, и камера снаружи казалась небольшим ящиком на полу. Так вот, к этому ящичку некто снаружи подходил. Внутри камеры, где стоял, подняв руки, ребенок, начинали происходить жуткие, таинственные вещи.
Дом стоял на берегу реки, вернее, выходил на ее бережок огородом, или садом, так как место действия было среднерусским худым гибридом обоих форм.
Раньше река была огромной, медленной, постоянно текущей твердью воды, и была детским жестом растопыренных пальцев (неуверенно: каким из них надо пользоваться в качестве перста) когда Мэла вынесли, кажется, дед, на первый берег и попросили ее показать.
С улицы дом выглядел более чем скромно: три заставленных окошка, ворота и уже упомянутая скрипучая калитка, любой прохожий имел полное право отметить убожество жилья, не обратив внимания на слишком уж жирный каменный цоколь.
Если же открыть калитку и заглянуть во двор (любопытная гусиная шея, удивленные глаза) то все внутри вставало на свои места – и стремительная кирпичная лестница в ступенчатом саду Семирамиды, с каменными вазами на перилах, плакучие ивы и прочие декоративные деревья, и дом, неожиданно двухэтажный, с множеством веранд и балконов, непредсказуемый, нерушимый. Далее (сбегая садом вниз, тряся длинными лучистыми волосами – Олла!) за поворотом меж двух правильных цветочных тумб, бурных факелов немыслимого запаха, открывалась уютнейшая виноградная беседка, с сетчатой тенью и шорохом, эхом столетнего шепота в ночи полнолуний, и калитка – заветная калитка на личный пляж Плетневых, с умопомрачительным петербургским видом противоположного берега… Сам дом, следуя склону, обнаруживал здесь уже третий, полуподвальный этаж, где размещались просторная кухня, столовая, склады. Над ними была большая, в три света зала, куда вела узкая скрипучая лестница (внутренняя) из кухни, и – металлическая, подвесная, увитая крепкой виноградной лозой – из сада. Кроме того, тремя двустворчатыми стеклянными дверьми зала соединялась с другими помещениями второго этажа и коридором, с лестницей на третий, то есть, первый со стороны улицы, имеющий скромный отдельный выход во двор…
Понять дом было невозможно и за неделю, особенно, если ты приехала в гости, в чужой город и чужую страну, тебе четырнадцать лет и ты не вполне уверена, что внешний мир существует.
Олла обнаруживала двери и зеркала там, где их еще вчера не было, окна, логически выходившие на городской простор, заключали в себе внутренность смежной комнаты, лицо дедушки, который никогда не разговаривал, а только смотрел из-под синего ночного колпака, угрюмо пожевывая папиросу. Возможно, в доме, среди темных, будто всегда кого-то прячущих комнат, были тайные, вовсе без окон комнаты, замурованные, вечно хранящие затхлый неподвижный воздух сундуков.
Олла приехала вместе с мамой – дальние рижские родственники – она была двумя годами его старше, Мэл надувался и рдел, проходя сцену всеобщего знакомства (даже дедушку выкатили в кресле на обозрение) а потом, ночью, хорошо сквозь стены представляя, где она спит (или не спит – ворочается?) Мэл вдохновенно мечтал о ней, о будущем счастливом месяце, неожиданно выделенном ему из обыденного каникулярного лета.
Утром у рукомойника – запах, бесспорно цветочный, но незнакомый, Мэл двинулся по коридору, раздувая ноздри, в сад, где в беседке (листья, пожалуй, удерживают гирлянды ароматических молекул) нашел книжку на чужом языке (две точки над «i», словно «ё») и далее, за полуприкрытой калиткой, в плотном коконе запаха на берегу Шумки обнаружил ее сидящей на корточках. Обе ладони Олла погрузила в воду и, внимательно сощурившись, обернулась на него.
Мэл закинул несколько пробных приветственных слов, девочка с любопытством наблюдала за ним через плечо, самые кончики ее волос были также погружены в воду, разговор установился…
И Олла объяснила Мэлу свое видение реки.
Это были следы уток на песке под водой, столь же четкие, что и на суше, листья, лежащие на дне, вырезанные из пластин ржавого железа, и листья, плывущие в толще воды, еще не затонувшие, не набравшие мирового железа – они давали живые тени. Солнце было напротив, оно плавило гребешки волн, превращаясь на дне в длинные змеистые линии, очень нервные; полупузыри воздуха бросали на дно хорошо отфокусированные иглы, Олла видела, как вытягивались вдоль течения водоросли, как корни прочно удерживали их в песке. Она видела глубоко летящих рыб, которые оставляли подвижные нитяные следы, колышущиеся объемы чистой воды, чаще двойные, как пузыри гигантских рыб, солнечные блики, слепо влекомые волнами – Мэл слушал и расширял свое зрение. Братское чувство переоформлялось в запретное, с этого момента между двумя детьми встало то неизбежное, что должно было произойти между двумя детьми в замкнутом пространстве сада и дома, в одном из тайных уголков, о существовании которых и не подозревают взрослые, хотя и считают, что хорошо смотрят за своими детьми.
Смотри, говорила Олла, он не сразу убивает ее – об огне и щепке, брошенной в огонь. Он обнимает ее и долго – смотри, как долго! – она остается целой, невредимой, странно: она вся в огне, но еще жива. Так он обладает ею – ты понимаешь, что значит это слово?
Об-ла-дает, – подумал Мэл. Окружает, обкладывает блестящими звонкими ладами.
Огонь, говорила Олла, был и есть один на Земле. Однажды он возгорелся и размножился – от искры к искре. Все огни – огонь, частицы единого большого огня, и стоит потухнуть одному костру, как где-то на другом конце Шара загорается новый. На каждой планете строгое количество огня. Если оно увеличивается, планета гибнет, если оно уменьшается, планета гибнет опять. Такое случилось и с моей далекой планетой, и вот я здесь, с тобой… Мэл был уже по уши влюблен в эту странную девочку.
Любая новая девочка была ему безумно интересна, потому что на свете не бывает не то чтобы двух одинаковых, но и вообще – даже двух похожих девочек: даже близняшки Ася и Аза, которых родители одинаково одевали – то ли следуя какой-то чудовищной моде, то ли из экономии – настолько отличались одна от другой, что лишь слепой или глухой мог их перепутать.
Ася обладала удивительной способностью краснеть, была застенчивой, жалкой, Аза, напротив, часто отпускала рискованные шутки и сама же над ними смеялась. Алла любила музыку – легкую, плавную – амурские волны или танго Соловья, Антонина предпочитала четкие ритмы диско, металла и рэпа. Анна имела привычку закусывать верхнюю губу, Алина – нижнюю, Ариша пристально смотрела расширенными зрачками, будто пораженная ужасом и болью, Ада высовывала язычок, острым кончиком достигая носа. Августа, напротив, вываливала свой огромный фиолетовый язык вниз-набок, издавая высокие протяжные стоны, Акилина крепко зажмуривала глаза и мерно раскачивала головой из стороны в сторону, Ариадна широко улыбалась, щурясь от удовольствия, Андрона любила натянуть подол себе на лицо, так что сквозь материю проступал какой-то забавный Фантомас, Анфиса никогда не снимала носков, похоже, из соображений гигиены, Агнесса не раздевалась вообще, позволяя лишь расстегнуть молнию джинсов, Аглаида, словно соперничая с нею, снимала с себя все, вплоть до дешевых сережек, шпилек, обручального кольца, Алевтина истерически требовала только фирменных усатых презервативов, Агриппина же терпеть не могла всей этой резины и, будто какая-то пожилая учительница, была буквально помешана на графиках и диаграммах, Аграфена, иногда называвшая себя Аделаидой и даже Аделиной, громким страстным шепотом читала стихи Иннокентия Анненского, Альбина вела долгие философские диспуты, тематики столь же разнообразной, как и применяемые ею подпозы, не прекращая дискуссировать даже во время своего оргазма, и лишь только одна Шурочка, милая моя, искренняя – делала все просто, чисто по-человечески, совершенно без всяких фокусов…
А какие у девочек были запахи, если вынюхивать девочку по частям: лиственные, лесные запахи ее волос – березовые, каштановые, липовые, деревенские запахи ее рта и ушей, запахи мегаполиса в ее промежности и подмышках, мягкие хлебные запахи ее грудей… Мэл умащивал девочек мамиными духами и дезодорантами, натирал мамиными кремами, умело использовал он и природные материалы, осыпая любовное ложе лепестками роз, лаская девочку головкой одуванчика, угощая земляникой… А каким наслаждением было любить девочку в стоге сена, в пойменных лугах загородных излучин реки, где вперемешку с травой были засушены мельчайшие дикие цветы, а однажды в бане, в липецкой деревне у двоюродной бабки, когда пришла насмешливая соседка, афганская вдова и, приметив его взгляд, умыкнула с собой потереть спинку… С тех пор он страстно мечтал повторить это древнерусское благоухание, и даже придумал себе суррогат, как-то раз, уже в Москве, преодолев брезгливость, отправился в общественные бани, но при первом пощипывании парного запаха с ним произошла вполне понятная вещь, и моющиеся мужчины приняли его за педераста.
Он любил дарить девочкам скромные, но значительные подарки, которые чудесным образом возвращались обратно: так, Анжеле он подарил ампулу розового масла с каплей болгарского солнца внутри, чтобы потом потерять сознание в дебрях собственного розария… Он мечтал полюбить девочку вдвоем с другом, крутить ее на широком ковре в четырех руках, четырех ногах, удвоить ее наслаждение, чтобы оно, размножившись в геометрической прогрессии, вновь вернулось к нему.
Бедная, несчастная Олла, прилежно читавшая книгу, она и представить себе не могла, какие необузданные желания вызывал у русского мальчика ее гладко зачесанный затылок.
Утром они вместе топили теплицу, накалывая тонкие смолистые лучины, днем пололи огородик (сырая черная земля, уже вполне хрустящая морковь, червяки) вечером поздно, в беседке, где луна вдруг разваливалась, нет, нарезана была на сотни виноградных листьев – зловещим шепотом рассказывали друг другу невинные страшные истории (Олля! Зун звейкас бьес киелис? – Да ладно вам! – голос матери Мэла. – Двор же на замке…)