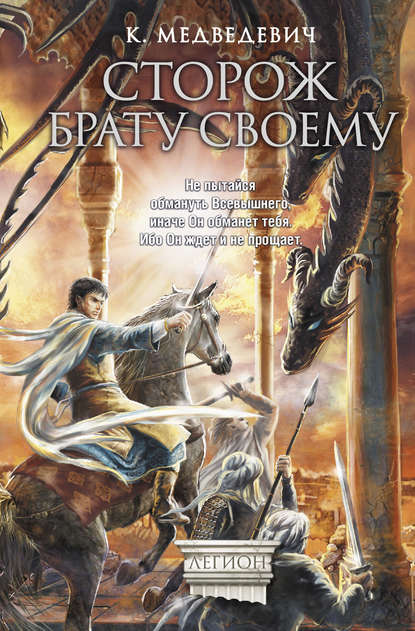Полная версия
Ястреб халифа
Когда же Тарик вернулся из похода, он не нашел милости в глазах халифа, ибо хитрость с волшебным сном вызвала гнев Аммара ибн Амира. И повелитель верующих сказал:
– Во имя Всевышнего, кто измыслил эту уловку? Ты или мои полководцы?
– Я, – ответил Тарик.
– Ты заслуживаешь самой суровой кары, – сказал Аммар ибн Амир. – Ты дважды провинился передо мной. Ты лишил меня славы победы, а затем прибавил к этому проступку ложь. Ведь мне известно, что это Тахир ибн аль-Хусайн, молочный брат моего отца, просил удержать меня от похода. Что скажешь?
И Тарик сказал:
– Сюда идут джунгары всей своей силой.
– Воистину моя слава выступила мне навстречу! – воскликнул Аммар ибн Амир. – За эту добрую весть я прощаю тебя.
Ибн Бассайн, «Драгоценные ожерелья».
Рассказывают, что когда воины Тарика увидели стан джунгар, их сердца объял страх. Они приступили к Тарику со словами:
– Господин! В долине горят десятки тысяч костров, и вражеский лагерь подобен небу в бесчисленных огнях звезд! Как мы одолеем врага, когда нас так мало?
Тарик же сказал:
– О люди! Куда бежать? За спиной у нас пустоши ничейной земли, а враг перед лицом. Клянусь Сумерками, не остается ничего, кроме как быть стойкими и отважными. Воистину бесстрашие и стойкость непобедимы, они – два славных воина, которым повсюду и всегда дарована победа, ибо бесстрашного не испугает малочисленность, а стойкому не грозят бегство и поражение. А вот если войско велико, то может в нем вспыхнуть смута или одолеть людей гордыня и леность. О люди, во всем следуйте за мной: если я нападу, то и вы нападайте, если я встану, то и вы остановитесь, в битве войско должно действовать как один человек. Не губите свою жизнь собственными руками, не разменивайте честь и величие на унижение и падение, не отказывайтесь от дарованной вам доли в мученичестве и геройской погибели, ибо, кто откажется, тот уронит себя в глазах всех верующих, и никто не помянет его завтра добрым словом. Я сам поведу вас в бой, а вы следуйте за мной, помня, что вам нельзя отклониться от выбранного пути.
Ибн аль-Хатыб, «Деяния великих мужей».
Ашшариты напали, как и приказал самийа, на рассвете, когда сон всего крепче. Ни один дозорный не сумел предупредить джунгар о подкравшемся враге – ястребы Мерва выследили всех до единого, и два десятка кочевников легли в высокую траву, пронзенные стрелами ашшаритов.
Саид приказал своей полусотне наклонить луки с наложенными стрелами – вдоль строя шел человек с факелом в руке, поджигая пропитанную сырой нефтью паклю на наконечниках. Человек обогнул ряд его воинов и зашагал вдоль второй линии спешившихся лучников. Кони вскидывали головы и топтались, кося на разгорающиеся огоньки. Похлопывая аль-Аксума по теплой шее, Саид оглянулся на холм, где стояли Тарик с Хасаном ибн Ахмадом. В сероватом рассветном небе свистнула, прочерчивая яркую дугу, одинокая зажженная стрела. Собрав повод в левую руку, Саид поднял правую и рявкнул:
– Залп!..
За его спиной то же самое выкрикнул Юсуф. Над их головами полетели горящие стрелы, выпущенные второй полусотней. Теперь снова пришел их черед:
– Залп!..
После тридцатого залпа Тарик сказал: «Не нужно беречь стрелы, мы найдем их достаточно, когда окончится бой». В лагере джунгар горели все юрты с южной стороны стойбища. От воплей мечущихся в огне людей волосы вставали дыбом. Среди пораженных стрелами и горящих на земле тел катались, бегали и пытались стряхнуть с себя пламя еще живые джунгары.
Саид услышал в голове шелестящий голос самийа: «Не мучить, не калечить, не щадить. В атаку». В прозрачном воздухе степи, вторя мысленному приказу Тарика, разнесся бой барабана.
– По коням!.. Вперед, во имя Всевышнего! – заорал Саид, высоко вскидывая длинное копье.
И они подняли лошадей в галоп.
…Джунгары, нужно отдать им должное, все-таки сумели построиться для встречной атаки. Полусотня Саида уже оставила копья и взялась за мечи, когда с обоих флангов раздались вопли и посвистывание налетающих кочевников – а следом тяжелый топот тысяч и тысяч копыт. Ответом стал мощный выкрик «Али!», и в бой вступили две тысячи Хасана ибн Ахмада.
Джунгар, однако, было так много, и так была велика их мстительная ярость, что всадники Хасана не сумели их задержать. Кочевники прорвались обратно в лагерь. Бой барабанов подал сигнал отойти и перестроиться.
Из дымного лабиринта пылающих юрт им удалось вырваться на удивление быстро. Небо посветлело, но трава еще казалась серой. Кони плясали на истоптанной и взрытой земле, когда их осаживали и разворачивали. «В строй, в строй» – гремели барабаны-таблы. Саид оглянулся на белое знамя Аббасидов над холмом, и вид длинного, извивающегося на ветру стяга вселил в него радость.
Под золотистой дымкой розовеющего неба вспыхнули, затем погасли, а затем снова засверкали копья отряда резерва – колышась, конная тысяча приходила в движение.
А в степи стояла пыль, и в ней мельтешили высверками оружия бьющиеся конники. Поле боя заволокло настолько плотно, что Саид не мог понять, идет ли к джунгарам подкрепление или грохот, крики и ржание лошадей поднимаются к небесам доблестными усилиями воинов Хасана ибн Ахмада.
Потом Саид узнал, что из степи действительно шло еще несколько тысяч конных джунгар, и юноша задумался о мудрости Всевышнего: знай он об этом в то утро, возможно, его сердце охватило бы отчаяние.
– Прощай, мученик! – Несмотря на грохот и шум боя, его воины готовились к атаке согласно обычаю.
Саид обменялся последним приветствием верующего с Юсуфом и потянул из ножен меч. Хищное свиристение обнажаемого оружия слышалось со всех сторон – этот звук он различил бы среди сотен других. Юноша не сумел сдержать улыбку.
Прорысил вестовой, размахивая рукой и крича:
– Идем в бой вместе с резервным отрядом!
Над холмами мерно, как на молитву, били барабаны, обещая белый виноград и свежую воду в зеленых садах Али.
«В атаку!» – спокойно и уверенно приказал у него в голове голос Тарика.
– Али-и-иии!..
Саид поддал шипами стремян в бока аль-Аксума. Конь вскинулся и рванул вперед так, словно хотел выбежать из-под седла.
– …Он убил его! Убил хана Булга! – крикнул Юсуф, показывая туда, где все равно ничего не было видно за плотной пылью.
– Откуда ты знаешь?! – изо всех сил заорал Саид и тут же закашлялся.
Впрочем, джунгары покидали поле боя, бросали поединки и разворачивались в степь. Над головами кричали ястребы. Птиц скрывала пыль – пока они не пикировали вниз и не вцеплялись когтями в лица кочевников. Джунгары орали как резаные и глупо размахивали руками.
В той стороне, куда показывал Юсуф, заорали еще сильнее. Налетел порыв ветра и погнал пыльное облако прочь. В желто-сером мареве Саид увидел, наконец, силуэты всадников. А когда пригляделся, то не поверил собственным глазам. Впрочем, ему приходилось видеть, как много может сделать хороший, прямой, как стрела киблы, толайтольский клинок в умелой руке. И Саид, конечно, много раз видел, как убивают с одного удара. Но он ни разу не видел, чтобы убивали с одного удара всякий раз, как наносили удар. Отмашка – труп. Отмашка – труп. Тарик рубился сплеча и очень быстро.
– Да помилует нас Всевышний, – зачарованно прошептал Саид, глядя, как вокруг самийа снопами валятся джунгары.
– А-а-а! – в восторге заорали все, кто мог видеть бьющегося нерегиля. – Вперед, во имя Всевышнего! К стремени военачальника!
Саида потом много расспрашивали: а правда? Неужели это возможно? И всякий раз Саид важно кивал и, свидетельствуя честность перед Вечным Судьей, отвечал: чистая правда. Направо взмахнет – голова с плеч. Налево – из седла выбьет. И мы собрались у стремени Тарика и рубились до полудня, пока трупы врагов не покрыли степь на многие фарсахи вокруг, и трава не стала мокрой от крови, и наши кони не стали оскальзываться и падать. Нет, это не поэты придумали. Это так и было.
Саид действительно упал вместе с конем. Правда, аль-Аксум не поскользнулся – ну тут важно не врать в главном, не правда ли? – а неудачно прыгнул через завал из конских и человеческих тел. Так они вместе и завалились – слава Милостивому, ничего не сломали ни он, ни конь. Воистину, у повода этого самийа летела удача.
Поднимая на ноги своего золотисто-рыжего красавца, Саид осмотрелся. В схватке они вырвались на разнотравье, и пыль улеглась. Ускакавшие вперед воины придержали поводящих боками коней и остановились. За их спинами барабаны прогрохотали сигнал прекратить преследование и возвращаться.
А потом они отправились наводить порядок в разоренном джунгарском становище. Уцелевшие кочевники, большей частью женщины и дети, просили о милости. Тарик велел в милости отказать. Саид с остальными отправились подбирать стрелы, свои и джунгарские. Много времени это не заняло: когда солнце перешло на запад и присело над холмами, они уже набрали полные колчаны – и столько же запасных стрел. Впрочем, расстреливая уцелевших джунгар, они опять израсходовали весь запас, и им снова пришлось отправляться на поиски – а это было уже нелегко, потому что день клонился к вечеру и стало темнеть.
Наконец, Тарик приказал залить все, что еще не сгорело, сырой нефтью и поджечь.
Занимая свое место в походном строю, Саид обернулся. В темном вечернем небе колыхалось зарево пожара. Тарик черным силуэтом стоял над бушующим пламенем, из которого взлетали вверх искры, выстреливали головешки, доносились слабые человеческие вскрики и пронзительный визг раненых и недобитых лошадей.
Пересев на запасных коней, они двинулись на север, к границе, не задерживаясь для отдыха, – джунгары могли решиться на мщение. Когда на рассвете ашшариты вступили на ничейные земли, отсветы далекого пожара еще отражались на пепельных облаках. Утреннее небо сливалось со стелющейся травой бесконечной степи. Тарик проскакал назад, в хвост колонны. В строю передавали, что дозорные заметили джунгарских разведчиков. Впрочем, те и не скрывались – всадники в шапках-малахаях на низеньких лошаденках маячили в нескольких полетах стрелы на песчаном гребне. Тарик неспешно двинулся им навстречу – белую накидку развевало ветром, конь, серый сухопарый сиглави[10], мягко переступал в траве. Поглядев на призрачно-бледного всадника, джунгары развернулись и припустили обратно в степь.
3. Когти ястреба
Оказалось, не так-то просто решить задачу: сколько дневных переходов понадобится четырем тысячам конников, чтобы пройти ничейные земли, а затем четыре ширванских фарсаха от ничейных земель до Мерва? Все считали, что от силы шесть. На третий день прискакали гонцы – с радостным известием. На шестой день в долине показался авангард войск, который вел Хасан ибн Ахмад. Их приняли за джунгар: облако пыли шло над ними, как грозовая туча, и люди с воплями метались среди полей, бросая мотыги и корзины. Даже когда ибн Ахмад развернул белое знамя Аббасидов, феллахи продолжали голосить и молиться, простираясь в сторону киблы там, где их застало страшное зрелище надвигающегося войска.
Оказалось, что самийа отстал на фарсах с сотней конных. Почему-то он решил допросить четырех пленных – единственных, кто уцелел из улуса хана Булга, – не в Мерве, а среди безлюдных пустошей плоскогорья Мухсин. Так что пику с головой хана Булга в военный лагерь повелителя верующих привез Хасан ибн Ахмад, а самийа прискакал – с почтительной поспешностью, так, что полы его джуббы развевал ветер, – еще через два дня.
Гнев Аммара успел остыть, а после известия о победе и вовсе улетучился. К тому же ему не приходилось скучать: к Мерву подходили все новые и новые войска.
Два корпуса тяжелой хорасанской конницы, «Бессмертные» и «Красные» – числом в десять с лишним тысяч воинов, – уже стояли отдельным, окруженным глубоким рвом и частоколом лагерем. К ним должны были добавиться четыре тысячи южан-ханаттани, ушедших с Тариком. Наместникам областей и краев также было приказано выслать войска и запасы провизии. Такие же приказы получили главы знатных родов: Амири, Курайши, Бану Худ, клан ибн Марнадиша, а также Бени Умейя. Всего ожидали собрать не менее сорока тысяч воинов. Теперь бирюзовый купол мавзолея Санджара, чудом уцелевшего дива Мерва, из знака горя и поражения стал как камень бахт[11] для сердец верующих. Блеск его изразцов, видимый на расстоянии дневного перехода, радовал сердца и вселял надежду на победу.
За пять дней до возвращения победителей в долину вступили войска наместника Саракусты, которые вел его старший сын. А еще за день до этого из столицы пришел большой караван, в котором ехали лучшие писцы двора халифа и его надим[12], Ибрахим аз-Зухри, известный поэт и ученый собеседник.
Наместник Саракусты прислал в подарок халифу двух рабынь, искусных в игре на лютне и на флейте, а Ибрахим аз-Зухри привез с собой несравненную Камар, слава которой распространялась по всему Хорасану. Говорили, что он купил знаменитую певицу у ее хозяина за пять тысяч динаров – лишь бы доставить удовольствие Аммару и развлечь халифа среди тоскливых будней военного лагеря.
Аммар, озадаченный нежданно открывшимся выбором, долго прикидывал, с чего начать, и в конце концов остановил свой выбор на Камар.
Три дня спустя
Надим Ибрахим разместился – впрочем, как и все, кто прибывал в Мерв этой осенью, – в одном из пустующих домов к западу от города.
Аммар с четырьмя приближенными, среди которых был и его любимец, поэт и насмешник аль-Архами, вошел в комнату. Под стенами стояли диваны с вытертой до ниток обивкой и два колченогих табурета. Разместившись среди убогой мебели, все стали хихикать и переглядываться. Ибрахим пошел за певицей и долго не возвращался. Отпускаемые на его счет шутки становились все злее.
Наконец в пыльную неприбранную комнату вошла женщина – рыжая и плоскогрудая. Аль-Архами прошептал: «Черны глаза возлюбленной моей…» – и все так и покатились со смеху. Женщина, однако, невозмутимо уселась в углу прямо на голые доски пола. Затем принялась настраивать лютню. Когда она взяла первый аккорд, все затихли – правда, кое-кому пришлось зажать себе рот рукавом, чтобы сдержать смех.
Камар тронула струны и запела:
– Завершилось время обмана! Где бы ты ни прятался, выйдет на свет твоя тайна…
Когда она дошла до строк: «Мое сокровище – тайна, которая лучше клада; Бессмертием награждает пленительная ограда. Нельзя не убить мне тайны; живет она только в смерти, Как тот, кто пленен любовью: тоска для него – отрада», – Аммар и аль-Архами, едва сдерживая крики восторга, повалились с диванов на пол. Аль-Архами сдернул с головы чалму и натянул драное одеяло с дивана, а его друг схватил корзину с бутылками оливкового масла и водрузил себе на макушку, руками продолжая отбивать такт. Бутылки разбились и в корзине, и на полу, масло текло по его лицу и груди, а приятель поэта кричал, как торговки на базаре, от переполнявших его чувств – не обращая внимания на Ибрахима аз-Зухри, который бегал вокруг и восклицал: «Мое масло! Мои бутылки! Мое масло!»
Так певица Камар заняла свое место на пирах халифа Аммара ибн Амира, и слава ее распространилась по всем землям верующих.
Прошло еще четыре дня
Сопроводительное послание, прилагаемое к письму наместника Саракусты, было составлено по всем правилам и написано изящным почерком насх[13] с прекрасно выдержанными по размеру буквами алиф[14]. Но, как уродливое пятно на белой верблюдице, все портила досадная ошибка, допущенная писцом: вместо «Неужели ты, да возвеличит тебя Всевышний, сорвал с меня покров своих милостей и лишил меня щедрот своей дружбы?» было написано «лишил меня щедротами своей дружбы».
Аммар пришел в страшную ярость: стоило ли выбирать калам из лучшего басрийского тростника и выводить заглавные буквы почерком сульс[15], чтобы вот так опозориться и испортить дорогую бумагу? И он написал наместнику Саракусты: «Что же ты шлешь мне послания с ошибками? Бичом убеди своего катиба в необходимости соблюдения правил».
Свое ответное письмо Аммар отдал начальнику тайной стражи Исхаку ибн Худайру. В ведении хитрого и склонного к коварству ибн Худайра находились почтовые станции и, конечно, пересылаемые через них письма.
«Посмотрим, через сколько дней выпорют дурака», – с удовлетворением подумал Аммар. Ему самому было любопытно, насколько быстро получится обменяться недавно заведенной голубиной почтой с далекой Саракустой.
Так он подумал – и с неменьшим удовлетворением осмотрел обеих присланных женщин.
Эмир Саракусты почтительнейше уведомлял его о достоинствах каждой. Обе были купленными невольницами, которых берут не для потомства, а приближают к ложу ради наслаждения. Одной уже исполнилось восемнадцать, и ее привезли из Ханатты – она утратила чистоту, зато была обучена всем премудростям любовного искусства. Аммару уже приходилось смотреть на бесстыжие и попирающие целомудрие книги ханаттани с рисунками и миниатюрами, от которых кружилась голова и восставало все, что могло восстать у мужчины. На этих изображениях не сразу можно было понять, сколько человек проделывают то, что происходит между мужчиной и женщиной, и кто из участвующих в забавах мужчина, а кто женщина, – настолько замысловатыми оказывались позы, в которых сплетались гибкие смуглые тела на рисунках.
Даритель сообщал, что ханаттянка «искусна в игре на флейте – во всех смыслах, мой повелитель», и Аммар, сообразив, что имеется в виду, осмотрел женщину еще раз. Та выдержала взгляд с не подобающим женщине ее положения бесстыдством. Лицо ханаттянки было открыто как лицо рабыни-язычницы, а шелковое платье едва сходилось на пышной груди. Талию девушки охватили бы две ладони, и чеканный пояс перехватывал ее, как спинку осы. Красавица была смуглой, как все уроженки Ханатты, каштановые волосы завивались в крупные мягкие локоны. Большой и пухлый рот изгибался в бесстыдной улыбке, а глаза смотрели нагло и приглашающе. «Она наездница среди наездниц, неутомимая в скачке», – расхваливало девушку письмо.
Вторая невольница была из верующих ашшариток, и ее выписали из столицы. Она оказалась полной противоположностью ханаттянке: девственна, стыдлива, с белой гладкой кожей, черноволоса – несколько худощава на Аммаров вкус, зато искусна в игре на лютне. Под игрой на лютне имелась в виду именно игра на лютне, безо всяких подвохов. К тому же девушка, несмотря на юный возраст (ей едва исполнилось тринадцать), прекрасно слагала стихи. Таких невольниц в столице принято было покупать ради нового философского поветрия – любви-узри, не предполагающей соития. Во всяком случае, в течение какого-то времени, которое влюбленные проводили в разжигающих ласках. По правилам игры позволялось лишь «срывать тюльпаны уст и наслаждаться гранатами грудей».
Самым притягательным в развлечении было то, что с возлюбленной полагалось соединяться в собрании – хотя Аммар, попробовав сам, решил, что только в собрании это и возможно. Останься они наедине, он бы не устоял перед желанием сгрести женщину в охапку и поступить с ней как мужчина поступает с женщиной. Впрочем, возможно, он одичал на этой войне, пребывая вдали от столицы, в окружении старых вояк, которые, глядя на модные новшества, бурчали, что женщина дана мужчине как пашня, и ее нужно пахать за занавеской, а не лизаться с ней, как котенок, за подушками.
Еще раз посмотрев на обеих невольниц, сначала на каурую, потом на черненькую, Аммар решил заняться ими, не откладывая.
… За подушками они оказались, когда вино уже кончалось. Аммар забрал лютню из рук девушки, и они опустились на ковер за валиками и отороченными бахромой и кисточками майасир. Белолицая красавица нежно вздыхала, они жадно целовались. Среди немыслимого числа шелковых одежд, скрепленных шнурами на застежках, он не сразу нашел ее плечо. И уж совсем не скоро его ладони добрались до прохладной кожи грудей. Девушка разожгла Аммара так, что пришлось ее оттолкнуть. Тяжело дыша, халиф поднялся и пошел к себе во внутренние комнаты. Хотелось чего-то простого и понятного, и Аммар велел привести ханаттянку.
Без длинных вступлений он приказал ей раздеться, прилег на высокие подушки, поставил женщину на колени и разрешил доставить себе удовольствие.
Она оказалась воистину прекрасной флейтисткой, но Аммар, устав от излишеств, через некоторое время поставил ее на четвереньки и хотел уже приступать, как в дверь поскреблись.
Женщина тихонько застонала, выгибая спину и облизывая губы:
– Господи-ииин… не оставляй меня как надкушенное яблоко…
Она тянула шею и встряхивала гнедой гривой, как породистая кобылица. Ее ладони разъезжались на гладкой шерсти ковра. Аммар заметил, что одним коленом женщина стоит на краю карты, и если он не переставит свою кобылку, то под угрозой окажется огромная стопка писем и документов – с перечислением имен военачальников, описанием войск, докладами о начислении жалованья, перечнями должностей и званий и кучей всего, чем приходится заниматься халифу во время, не занятое объездкой лошадей.
– Какой шайтан несет тебя, о Хисан? – подавив стон, спросил Аммар скребущегося.
– Прибыл самийа, о мой господин, – дрожащим голосом откликнулся невольник.
– Вот пусть и отправляется к джиннам, – с удовлетворением ответил Аммар – и провел ладонью по ложбинке смуглой спины.
Женщина наклонилась и повела бедрами, раскрывая свой цветок.
– О мой господин! Не ты ли приказал ему явиться с докладом немедленно, как только он прибудет? – Хисан явно опасался плетей и решил обезопасить себя напоминанием об отданном приказе.
– А где он? – поинтересовался Аммар.
– А вот прямо здесь, о мой господин, – сказал Хисан.
– Вот и пусть подождет прямо здесь.
Сказав так, Аммар решительно придвинулся к женщине.
Та ахнула и выпустила воздух сквозь стиснутые зубы.
Она сама оказалась как флейта – таких стонов и вздохов Аммар еще не слышал, и, хотя подозревал, что они, по большей части, притворны, это еще больше распаляло – он хотел добиться настоящего вскрика. Ханаттянка вскрикнула, как раненая газель, и опустилась лбом на ковер в любовном изнеможении.
Довольно вздохнув, Аммар натянул шальвары, запахнул халат и, шлепнув женщину по круглому заду, пихнул ее в гору подушек. Майасир оказалось достаточно, чтобы закидать ханаттянку полностью. То, что все-таки торчало – маленькую смуглую ступню с кроваво-красными ноготками и золотым браслетиком с подвесками, – халиф прикрыл ее же вуалью.
– Пусть заходит, – крикнув это Хисану, Аммар взял единственную оставшуюся не использованной здоровенную бархатную подушку и уселся на нее.
Самийа вошел с совершенно невозмутимым лицом. Отдал земной поклон и сел на ковре напротив.
– Ты опоздал к празднику. Мне пришлось чествовать Хасана ибн Ахмада без тебя. Впрочем, учитывая, что ты сделал в ночь перед выступлением, я бы распял тебя на мосту через Мургаб, – зевая и прикрывая ладонью рот, сказал Аммар.
– Вот поэтому я и решил подождать вдали от моста, – нерегиль невесело усмехнулся.
– Это правда, что ты допрашивал пленных джунгар? Что тебе удалось узнать?
Самийа наклонил голову к плечу и кивнул в сторону горы подушек, под которыми кто-то мягко пошевелился. Аммар отмахнулся:
– Это рабыня.
– Я понимаю, что не жена, – пожал плечами Тарик.
– Считай, что здесь никого нет, – отмахнулся Аммар. – Я с ней еще не закончил.
Тарик помолчал, затем кашлянул в кулак и поднялся на ноги.
Аммар вздохнул и покачал головой – мол, делай как знаешь.
Самийа раскидал подушки. Раскопанная женщина перевернулась на спину, потянулась и медленно раздвинула согнутые в коленях ноги. И поманила Тарика ручкой с острыми красными ногтями. Самийа отвесил ей несильного пинка в бок. Хихикая, ханаттянка перевернулась на живот, потянула из разноцветной шелковой груды вуаль и, подымаясь, не спеша обернула ее вокруг себя. Полупрозрачная белая ткань не скрывала ничего. Женщина смерила нерегиля наглым развратным взглядом, улыбнулась и пошла прочь из комнаты – покачивая бедрами и позвякивая подвесками ножных браслетов.
Тарик вдруг спросил ее вслед:
– Как тебя зовут?
Невольница остановилась и обернулась, распрямляя спину и показывая соблазнительные холмы грудей с еще острыми сосками:
– Румайкийа.
– Почему? – бесцветным голосом проговорил нерегиль.
– Моего прежнего хозяина и… наставника… – тут ее полные губы изогнулись в бесстыдной усмешке, – …звали Румайк.
Тарик кивнул и отвернулся. Женщина встряхнула пышной каштановой гривой и снова двинулась к двери. Ее бедра покачивались, тревожа чресла мужчины.
– Вот сучка, – одобрительно фыркнул Аммар ей вслед.
И подумал, что ханаттянка – язычница, и лекарю с ней дозволено будет поступить как поступают с женщинами из харимов младших братьев халифа. Говорили, что сейчас есть быстрые и безопасные способы сделать женщину бесплодной. Тогда смуглянка не будет представлять опасности, и ее можно будет безбоязненно брать с собой в походы – если придется бежать, невольницу можно будет в случае чего бросить, не опасаясь, что она… жеребая. А в походах, похоже, Аммару придется проводить много времени.