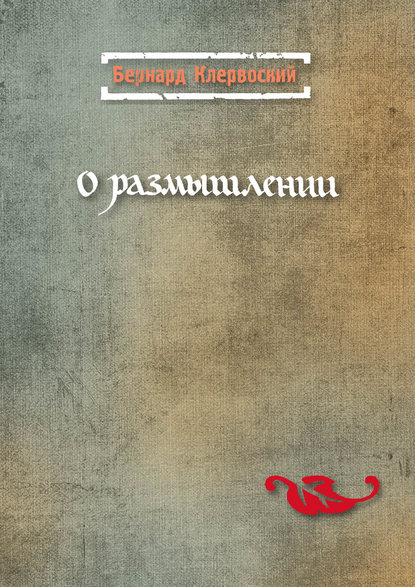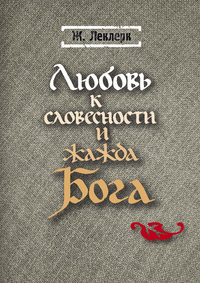Полная версия
Святой Бернард и дух цистерцианцев

Жан Леклерк
Святой Бернард и дух цистерцианцев
© Jean Leclercq, 1966
© Издательство Францисканцев, 2013
© Централизованная религиозная организация Конференция монашествующих Католической Церкви, 2013
* * *
Тайна святого Бернарда. Введение
Святой Бернард – духовный наставник. Он им был и остается: его влияние на протяжении его жизни и после смерти, вплоть до нашего времени, когда практически каждый год о нем выходит какое-нибудь исследование, – вполне достаточное тому доказательство. Святой Бернард был святым. Святым его считало большинство современников; святым его провозгласил Папа Римский через двадцать один год после его кончины. Значит ли это, что все его поступки были безупречны? По этому поводу вспоминается то, что сказал кардинал Ньюмен о Кирилле Александрийском: «Я знаю, что Кирилл святой, но ничто не обязывает меня считать, что он был святым в 412 году». Бернард был одним из тех великих людей, о которых трудно писать без восхищения или же без раздражения, то есть беспристрастно, потому что он очень велик и при этом в высшей степени обладает всеми человеческими свойствами; он поочередно озадачивает нас, принижает, утешает, вызывает негодование. Нам нравится видеть его человечным, даже очень человечным; но вместе с тем тот факт, что он иногда настолько человек, тогда как в других обстоятельствах – настолько святой, мы воспринимаем болезненно. Сумел ли он привести эти противоречия в согласие, в гармоничное единство, и можем ли это сделать мы?
Да и что мы о нем знаем? Среди его современников, оставивших о нем свидетельства, часть принадлежит к числу его противников, в том числе Абеляр и его ученик Беранже, который, желая защитить своего учителя, отважился даже на клевету. Но большинство – это его ученики и почитатели. Их рассказы об учителе полны вдохновения: они сообщают нам почти столько же о посмертных деяниях святого Бернарда, сколько и о его земной жизни. Один из них – Готфрид Оксеррский, покинувший школу Абеляра, чтобы последовать в монастырь за клервоским аббатом, еще при его жизни, хотя и без его ведома, собрал воедино воспоминания, озаглавленные им «Fragmenta»; впоследствии они и послужили материалом для первого биографа святого Бернарда – Гильома из Сен-Тьерри. Гильом был очень близок Бернарду в его бытность аббатом. Что же касается жизни святого, предшествующей годам, когда он исполнял обязанности аббата – ведь и этот автор писал, уже не имея возможности обратиться к предмету своего жизнеописания (nec ipso sciente), – его свидетельства следует воспринимать с некоторой осторожностью. Впрочем, он умер пять лет спустя после самого Бернарда, создав о нем житийную легенду. Другой агиограф – Арно из Бонневаля – написал второй труд, а затем Готфрид Оксеррский завершил свою книгу, дополнив ее тремя последующими. Первое Житие уже изображает жизнь Бернарда так, чтобы это послужило делу, которому Бернард посвятил свою жизнь, а именно – совершенствованию монашеской жизни в Церкви, особенно в клервоском аббатстве. Свидетели, которые, подобно аристократу культуры Иоанну Солсберийскому, сумели сохранить в отношении святого Бернарда беспристрастность и даже некоторую отстраненность, очень редки. Что касается Иоанна Солсберийского, он был способен равно восхищаться и святым Бернардом, и Абеляром.
Святой Бернард – действительно человек, в отношении которого нам приходится занять совершенно определенную позицию, причем именно потому, что он был живой противоположностью всему посредственному. Он был необычайно одарен Богом и, пожалуй, никогда не делал ничего заурядного. Он блистал в самых разных сферах, иногда совершенно противоположных друг другу. Кто способен разрешить подобные антиномии? Дают ли его труды возможность это сделать? Разумеется, мы должны хотя бы попытаться поставить себе такую задачу, но она таит в себе несколько ловушек. Эти ловушки объясняются, в первую очередь, не тем, что его окружение, как бывало в других случаях, считало себя вправе подправлять его стиль, вносить дополнения или, напротив, изымать некоторые вещи из его наследия; проблема подлинности теперь уже решена. Самое большое препятствие к знакомству с Бернардом путем изучения того, что говорил он сам, в том, что он ничего не говорил, не написав, не подвергнув обработке. А поскольку одним из самых выдающихся его даров был именно дар литературный, то изрядная доля риторики во всем, что он писал и диктовал, мешает увидеть за художником человека. И возможно, открытие всей полноты его таланта прольет новый свет на силу и обаяние его личности, на масштаб и длительность его влияния.
Мы чувствуем: Бернард в любом случае останется тайной. Поэтому речь здесь никоим образом не идет о том, чтобы посягать на секреты истории (разве не Богу они, в конце концов, принадлежат?). Мы хотим лишь попытаться увидеть в Бернарде подлинное величие, благодаря которому он был и остается учителем и наставником. В нем все было исключительно, даже человеческое, и именно это мы хотели бы показать. Вот почему люди всех времен, в том числе и наши современники, ощущают его таким близким и восхищаются его трудами.
Личность Бернарда и его творения
Когда Бернард родился в замке Фонтен-ле-Дижон в 1090 году, Запад находился в состоянии бурного развития – более или менее как в наши дни: общество глубоко менялось, Церковь переживала реформы. Население Европы возрастало, развивалась экономика, укреплялась власть королей, а власть сеньоров становилась более организованной и гуманной. Папе Григорию VII, умершему всего пятью годами раньше, удалось укрепить авторитет Церкви и дать новый толчок жизни всего христианского мира. Реформа, названная в его честь григорианской, уже начинала приносить плоды. Однако образ мыслей меняется быстрее, чем установления и структуры, и, вероятно, эти последние недостаточно принимали в расчет чаяния людей и народов. Практически повсюду в то время возникали широкие течения, противопоставлявшие себя церковной иерархии и, в конце концов, вылившиеся в так называемые народные ереси. Они учат, наставляют и обещают ту чистоту, которая многим кажется возможной только после освобождения от законов Церкви в области нравов и веры. Так возникает и растет ересь катаров.
Монашество, обремененное прошлым, прочно связанное с формами жизни и социально-экономическим порядком предшествующих эпох, тоже переживает кризис, но он уже готов разрешиться, порождая на свет новые установления монашеской жизни, благодаря которым монахи, пустынники, духовенство и рыцари смогут посвятить себя ревностному служению Богу.
Никоим образом не следует забывать о сложности тогдашнего религиозного мира: это неизбежно приведет к неверному взгляду. Было бы крайним упрощением, если не сказать – искажением всей картины, сводить все существовавшее в то время многообразие лишь к двум именам: Клюни и Сито. Первое относится лишь к одному из памятников традиционного монашества в том виде, в каком оно воплощалось в лотарингском аббатстве Горце, в Кьерси, Санкт-Галлене, Сент-Эммераме и в других местах Священной Римской империи, в аббатстве Шез-Дьё в Оверни, в аббатстве Монмажор в Провансе, в монастыре Сен-Виктор в Марселе, в Монте-Кассино и многих других местах Франции, Италии, Испании, Англии и других стран. Некоторые из этих аббатств становились, подобно Клюни, главами целых конгрегаций, иногда объединявших в своеобразные федерации несколько монастырей или учреждавших дочерние общины. Юридические структуры этих федераций были многообразны и гибки. Повсюду монахи жили, следуя Уставу святого Бенедикта, но, помимо него – а часто даже в большей степени, – согласно обычаям, унаследованным от эпохи Каролингов. Они одевались в черные одежды, поэтому монахов, следовавших этому типу устава, называли «черными». И в Клюни, и во многих других общинах действительно было много истинной веры и ревностности; но сами монашеские установления уже проявляли признаки несоответствия новым формам, которые приобретали социально-экономические структуры общества.
В других кругах, начиная с последних десятилетий XI века, стала возникать тенденция возвращения к источникам монашеской жизни – к восточным текстам, к Уставу святого Августина и Уставу святого Бенедикта. Монахи стремились к большей простоте жизни, к более строгому соблюдению монастырской бедности. Благодаря этим чаяниям появились общины и объединения духовенства, представители которых стали называться регулярными канониками; возникли монастыри нового типа. Отличительным признаком их обитателей были одежды из некрашеного сукна, то есть серого цвета. Этих монахов назвали grisei, или, в противоположность монахам прежнего типа, «белыми». К группе регулярных каноников принадлежали, например, премонстраты и другие «августинцы». Поскольку в Латеранской базилике служило духовенство именно такого типа, Папа избрал себе облачение белого цвета, которое сохраняет до наших дней. К числу монахов нового типа присоединились, среди прочих, некоторые члены Ордена картузианцев и Ордена цистерцианцев. Отношения между ними были разные, но в основном добрые. Многие новые монастыри были основаны благодаря поддержке старых. И все же, по мере того, как представители этих различных тенденций осмысляли свою жизнь (надо заметить, что «новаторы» пользовались престижем, дававшим им самим немалые основания для гордости, а окружающим – для зависти), между некоторыми из них стали возникать расхождения, столкновения идей и даже споры, которые спустя полвека породили целую полемическую литературу. Одна из таких дискуссий столкнула между собой нескольких клюнийцев и цистерцианцев.
С 1099 до 1118 года Папой был один из бывших монахов Клюни – Пасхалий II. Вслед за ним Папой (под именем Гелазий II) был избран бывший монах Монте-Кассино, который умер в Клюни через год после начала своего понтификата. Им и их преемникам пришлось разрешать немало тяжб между собой и другими правителями – императором и королями – и между этими последними. В каждом государстве сеньоры враждовали друг с другом и с собственным сюзереном, а тем временем в некоторых городах создавались общины, которые отвоевывали себе свободы, получившие название вольностей. В гуще столь кипучего и беспокойного общества, в этом грубом и вместе с тем детски впечатлительном мире, восприимчивом к красоте и одновременно способном к насилию и ярости, появляется великая и загадочная фигура Бернарда из Фонтена, которому суждено было стать голосом своей эпохи.
Он готовится к этому, или, скорее, его к этому готовит Бог.
Чей замысел остается на протяжении двадцати двух лет неведомым даже ему самому. С юности, а может быть, и с самого детства в нем удивительным образом сочетались темперамент и благодать. Он был великодушен, а его пылкость увлекала его то к действительности мира сего, то к следованию Божественным требованиям.
Он учился, хотя точно нам об этом ничего неизвестно; тем не менее, по плодам этой учебы мы можем судить о ее высочайшем уровне. Вероятно, учился он литературе, а не диалектике – этой науке рассуждения, привлекавшей к себе в то время многие молодые городские умы. В городских школах уже начинал развиваться метод, который впоследствии станет называться «схоластикой».
В отличие от своих братьев и кузенов, Бернард не имеет никакого отношения к военному ремеслу. Не идет он и в клирики. Может быть, он ищет чего-то или кого-то? Сумеет ли он найти равновесие?
Не слишком ли он хрупок и неустойчив? Кажется, нет: он решителен, обладает упорством, способен выносить продолжительные напряженные усилия. Иоанн Солсберийский назовет его «деятельным». Вместе с тем он робок и чувствителен. Нельзя сказать, что он слаб здоровьем, потому что внешне выглядит вполне крепким, но уже и сейчас ему случается болеть. Не исключено, что периодами крайнего истощения он расплачивается за моменты чрезмерной активности, напряженной внутренней и внешней работы.
Бог совершает в нем Свое дело, и он не противится. Он ожидает, и в нем уже идет внутренняя борьба. С двадцати лет, а может быть, и раньше, он ощущает себя призванным к полному и всецелому принесению себя в дар. Окончательно его освобождает последний выбор: возможности поехать учиться в большой город он предпочитает перспективу монашеского затвора. Но он не хочет идти туда один и склоняет к этому своего дядю, родных и двоюродных братьев, друзей… И вот группа послушников числом около тридцати человек, уже закаленных в житейских битвах, в один прекрасный день приходит к воротам монастыря, основанного двенадцатью годами раньше и известного своими суровыми требованиями; монастыря, о котором говорят, что он действительно совершенно отдалился от человеческого общества. Он называется Сито. Так проявилось их желание подражать Христу; и, чтобы в самоотречении и радости приобщиться тайне Его смерти и Воскресения, они решили, как свидетельствует Готфрид Оксеррский, прийти в монастырь «незадолго перед Пасхой».
Бернард и пришедшие вместе с ним проходят этап послушничества, приносят обеты, и три года спустя после поступления в монастырь двадцатипятилетнего настоятеля уже отправляют основать монастырь в Клерво, в провинции Шампань. Он становится аббатом, то есть отцом собственных братьев и людей, которые по возрасту значительно старше его. Он посвящает себя их воспитанию и материальному устройству нового монастыря. Покидает монастырь он, по всей видимости, редко, но сразу же притягивает к себе людей. С ним приходит познакомиться известный богослов того времени, Гильом из Сен-Тьерри. Послушники устремляются в монастырь рекой. Через три года после основания клервоский монастырь уже создает дочернюю общину – в Труа-Фонтен, а через год еще одну – в Фонтене. В последующие тридцать лет распространение клервоского монашества происходит со скоростью двух новых монастырей в год. В год своей смерти, в 1153 году, Бернард – отец уже шестидесяти двух общин, а если прибавить и дочерние, всего их сто шестьдесят четыре, то есть около половины всех общин, которые насчитывает Орден цистерцианцев в целом. Бернард становится душой этого большого тела, продолжает учиться, «возделывать» себя. Его понуждают писать, и он пишет.
В возрасте тридцати лет в своих первых трудах он уже полностью проявляет свой дар влияния на умы и души. И с этих пор мы больше практически не обнаружим принципиальных изменений ни в его характере, ни в действиях, ни в стиле, ни в мышлении. Каков же теперь этот человек? Как он использовал дары, которыми Бог наделил его натуру?

Дары
Трудно говорить о дарах святого Бернарда: настолько они многообразны и настолько их умножает благодать. Общее впечатление, которое он производит – впечатление поразительной жизненной силы. Многие говорили о его энергичности и даже о магнетизме. Без сомнения, он обладал большим мужеством, но, вероятно, сохранил и некоторые проявления робости. В нем были и неистовость, и нежность; в нем равно проявлялись и мужское, и материнское начало. Его ум был быстр, неутолим, способен повсюду схватывать и воспринимать ростки культуры, которые он затем – по-своему – взращивал. Он обладал острой наблюдательностью, живым воображением, невероятной способностью чувствовать, переживать; горячим сердцем, великодушным в любви, но способным поддаваться и полемическому пылу. Похоже, что первые годы в Сито и первое время бытности аббатом подорвали его здоровье. Трудно определить, каким недугом он страдал. Наиболее точный бюллетень о здоровье, который до нас дошел, представляет собой послание, адресованное его второму биографу, Арно из Бонневаля. Однако подлинность и этого послания вызывает сомнения. Оно не лишено риторики: даже болезнь служила Бернарду литературной темой. Благодаря описаниям состояний, которые приводят современники и он сам, можно предположить, что у него был хронический гастрит, развившийся в язву желудка и сопровождавшийся невралгиями, спазмами и судорогами желудка, расстройствами кишечника и астенией. Ни одна из этих болезней не угрожала жизни, а может быть, и не была опасна. Но их сочетание вполне объясняет тот утомленный вид, бледное лицо и нездоровый румянец на щеках, описанные Готфридом Оксеррским. Очень часто (если не сказать: как правило) Бернард ощущал усталость и изнеможение. Порой он сильно страдал и становился бременем для себя самого и своих собратьев, и это унизительное физическое состояние, известное всем, по-видимому, давало ему право на бережное обращение. Но именно в таких условиях и в таком состоянии он работал, наставлял, путешествовал, основывал общины, совершал служение духовного наставника и участвовал в делах Церкви. Его слабость сочеталась с энергией, а телесная хрупкость – с твердостью воли.
Что же касается даров, которые, по его любимому выражению, «украсили его дух», то есть талантов, которые он получил в преизбытке и которые принесли самый обильный плод, трудно даже выбрать, с какого из них начать – ведь все они были лишь разными сторонами единой яркой индивидуальности.
Бернард был поэтом. Уже сам способ ви́дения мира свидетельствует о его творческом начале: он словно прибавляет нечто к тому, что видит, преображает то, на что смотрит, открывает в предметах своего внимания больше, чем говорят они сами; Бернард проникает вплоть до глубин Божественного замысла, и его свет, преломляясь через душу, делает прекраснее объекты, которые душа воспринимает. Некоторые авторы, в силу собственных предрассудков, а может быть, слишком поверхностного чтения, приписывали ему недоверчивость и даже пессимистический взгляд на природу. Но более глубокое изучение его творений дает возможность обнаружить богатейшую гамму живописных и символических образов, на которых у нас, к сожалению, нет возможности остановиться и существование которых мы можем лишь отметить. Фауне Бернард уделяет больше внимания, чем флоре, словно его заведомо больше интересует все одушевленное. Тем не менее, в его поэтической картине есть все: автор постоянно упоминает стихии, звезды, времена года, камни, растения и животных, и метафорами такого рода чаще всего изобилуют беседы и проповеди. В этом Бернард верен традиции, которая от Плиния и древних натуралистов дошла до него через Отцов Церкви, святого Исидора Севильского, через авторов средневековых бестиариев и лапидариев. Библия была для него главной школой поэзии, именно благодаря ей он научился восхищаться. Она породила в нем убеждение в том, что первоначальный порядок, нарушенный грехом, может и должен быть восстановлен в Господе Иисусе. Mirum opus naturae! Чудно создание природы! – восклицает он в одном из своих писем (72).
Он относит этот принцип к легкости птиц, к быстроте квадриги, – и оба примера служат для поощрения и поддержки тех, кто стремится к Христу. Он действительно умеет вчитаться в книгу природы, о которой говорит в 9-й проповеди (из «Проповедей на разные темы»): он извлекает из нее поучительные уроки, благотворные сравнения, и к этим темам, которые могли бы породить лишь искусственные и бесцветные образы, он подходит с такой свежестью и иногда даже нежностью, что это ясно свидетельствует о его добром настроении и душевном здоровье.
Бернард – художник. Он нуждается в красоте. Он и сам создает ее, и отдает ей предпочтение. Он желает видеть ее простой и чистой, как Сам Бог, отражением Которого она является. Нам следует воздержаться от упрощенных противопоставлений между пышным искусством, которое называют бенедиктинским, и строгостью стиля, присущего цистерцианской ветви. Монастырские церкви были, как правило, небольших размеров и строги по архитектурному стилю. Это относится, в том числе, к большинству монастырей, зависевших от Клюни. Архитектурные приемы, которые использовались в каждом месте, были общепринятыми для своего времени. В виде исключения размеры некоторых базилик, куда стекались многочисленные паломники – Клюни или Сен-Бенуа-сюр-Луар – были сообразованы с иными, не монастырскими требованиями, и их отделка часто больше напоминала отделку соборов и других епархиальных храмов. Цистерцианцы же хотели, чтобы все их аббатства находились в уединенных местах и чтобы их храмы были закрыты для народа; поэтому совершенно нормально, что там царила абсолютная простота. Однако, по мере того как общины росли и распространялись, у них тоже возникала необходимость в возведении более крупных строений, которые порой превосходили по размеру строения монахов других орденов и были ничуть не дешевле их.
Прочные и величественные, но необычайно гармоничные строения аббатства Фонтене, построенного по пожеланию святого Бернарда, и по сей день остаются воплощением той архитектуры, потребность в которой он ощущал. Бернард стал основоположником того монастырского плана постройки, который из Клерво распространился по самым различным регионам Европы. Историки говорили о «цистерцианском плане»; эта формула вызывала споры. Но нет сомнения в существовании «клервоского плана», то есть, иными словами, плана самого Бернарда. Однако, вероятно, наилучшую возможность судить о его эстетическом вкусе дают рукописи, оформленные под его началом. Они считаются шедеврами «чистой графики»: строгое, лаконичное иллюминирование, сдержанное по цвету и выдержанное в идеальной форме, полностью подчиненное письму, которое в свою очередь очень элегантно и продуманно. Для Бернарда важен именно текст. По его мнению, никакой человеческий образ ничего не в силах к нему добавить, но великолепие букв способно вызвать благоговение. Большая клервоская Библия, которая теперь хранится в Труа, может считаться в области иллюминирования тем же, чем Фонтене в области архитектурного искусства: образцом тончайшего сочетания порядка и благодати, высокого вдохновения и лаконичности выразительных средств.
Был ли Бернард музыкантом? Этот вопрос тоже не может не возникнуть, ведь реформа цистерцианского песнопения носит его имя. Однако давал ли он какие-либо указания технического характера? Музыка ощущается в самом его стиле. Нет сомнения, что он «слушал» то, что создавал. Когда он составляет литургическое богослужение памяти святого Виктора для бенедиктинского аббатства в Монтьераме, становится очевидна его осведомленность во всех законах жанра: в метрике гимнов, в структуре респонсориев, в parodia – то есть парафразе – антифонов и т. д. Очевидно, что он знаком с традицией этого искусства в Церкви. Сочинял ли он музыку сам? Невозможно ни утверждать, ни отрицать этого, но от такого человека вполне можно ожидать самых удивительных вещей. Трудно себе представить, чтобы он мог удержаться и остаться в стороне от реформы цистерцианского песнопения, тем более что она проходила под его покровительством и он написал Введение к Антифонарию. Как бы то ни было, он очень верил в воздействие музыки на ум и сердце: «Если там есть пение, – пишет он аббату Монтьераме, – пусть оно будет сдержанно – ни слишком сурово, ни слишком чувственно. Пусть оно будет сладостно, но не беспечно; пусть чарует слух, чтобы тронуть сердце. Пусть врачует скорбь и усмиряет гнев. Пусть не лишает текст смысла, но животворит его». И, рассуждая о «духовной благодати» и духовных вещах, которые достигаются этим путем «проникновения» – insinuandis rebus, – продолжает: благодаря приятности звуков: sic mulceat aures. Утверждение о том, что красота способна «животворить букву», способно немало сказать о душе Бернарда.
Можно ли считать Бернарда философом? Одни говорят, что можно, другие это отрицают. Он не был философом в обычном смысле слова. Более того, он сделал все, чтобы ему в этом звании отказали: ему довелось яростно хулить тех, кто его носил. Но не была ли для него философия, как, например, для святого Петра Дамиани, скорее, литературной темой? Он наблюдал и размышлял: это был, безусловно, мыслитель. О человеке, о единстве разума и смертной плоти, о «функциях» души – животворить, воспринимать, разуметь, – о ее «составляющих» – памяти, разуме и воле, – о ее частях – разумной, вожделеющей и гневливой – у него было собственное мнение, присущее ему одному, и такого рода целостного видения мы не находим ни у кого другого. Он воспринял и усвоил элементы разных традиций, особенно сократической, где подчеркивалась необходимость познания себя. В его мировосприятии все эти элементы служили учению об образе Божием в человеке. Уча, он умел побуждать к рассуждению. И все же он не был ни метафизическим гением, подобным святому Ансельму, ни диалектиком, подобным Росцелину. В этом смысле можно сказать, что философом он не был. Но у него была своя философия, по крайней мере, она ощущается в его трудах. Правда, иногда случается, что риторика наносит ущерб логике; он не соглашается писать, как профессор; некоторое желание увлечь читателя, неожиданно поразить, определенная доля фантазии иногда мешают полной ясности в изложении абстрактной мысли.