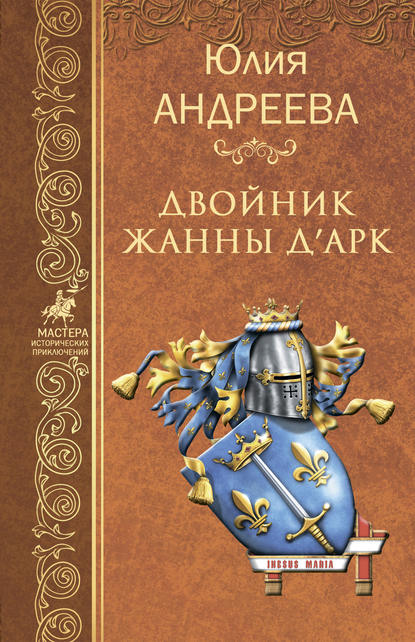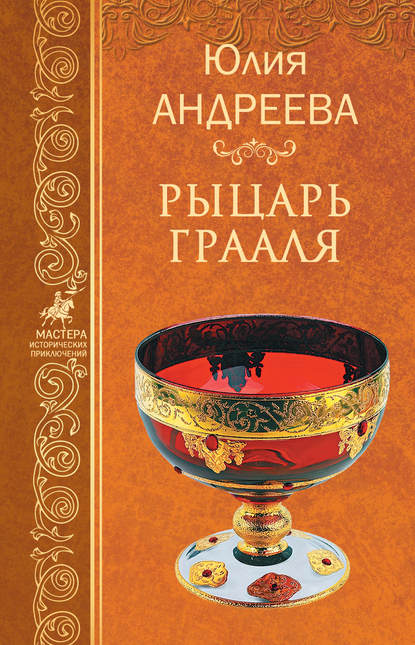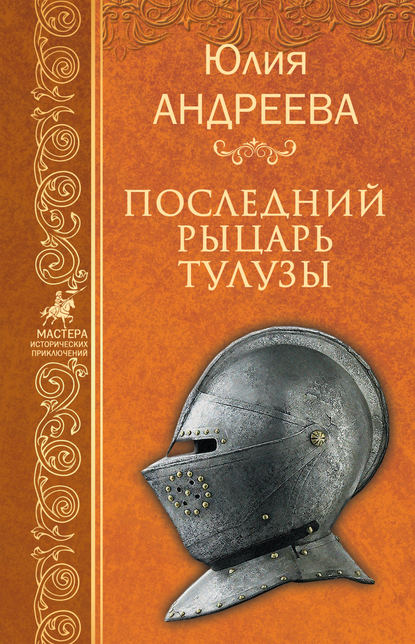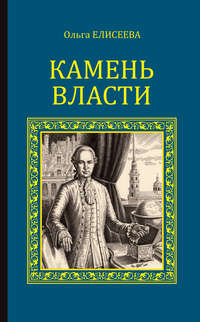Полная версия
Париж слезам не верит
– Сударь мой, я из дворца, – начал Петрохан, раздраженно щелкая пальцем по чернильнице. – Его величество крайне недоволен самоуправством командующего оккупационным корпусом. Приходят известия, будто граф позволяет себе вольные высказывания об образе действий правительства… В присутствии своих офицеров отпускает критические замечания о результатах Венского конгресса, о восстановлении Бурбонов на троне и вообще… – Длинные предложения давались князю не без труда, лоб у него вспотел. – Голубчик, вы с ним дружны. Ну, напишите же ему приватным образом. Что он творит! Одновременно подготовьте официальный ордер от моего имени. В самых жестких выражениях. Можно подумать, кому-то нравятся Бурбоны!
Волконский запыхтел, втиснулся в кресло, от чего хрупкая карельская береза издала жалобный стон. «Надо найти ему что-нибудь из мебели прошлого царствования, – про себя отметил Арсений. – Вот тогда делали не на соплях». Знаком князь отпустил адъютантов, а когда двери за ними закрылись, вновь обратился к дежурному генералу:
– Подайте мне план дислокации частей на будущий год, кое-что хочу поправить.
Лицо у Арсения вытянулось.
– Ваша светлость, осмелюсь доложить, документ у вас.
Петрохан поднял бровь.
– Что это вы придумали? Как «у меня»?
– Вчера вы брали его с собой работать дома. – Закревский почувствовал, что у него подгибаются колени. Не о плане дислокации речь. Имелось одно секретное приложение. Относительно Турции. Пользуясь тем, что Россия завязла в конгрессах, османы опять начали резать греков, устроили погромы в Стамбуле, сами провоцировали разрыв. Государь приказал тайно подготовить план возможной кампании. Бумага была наисекретнейшая. Она-то и имела несчастье запропаститься!
– Вы понимаете, Арсений Андреевич, – свистящим шепотом осведомился Петрохан, – что может значить подобная утрата?
Арсений-то понимал.
– И вы еще смеете утверждать, будто я сам забрал документ такой важности! Идите и найдите его! Немедленно!!! Чтобы через час он был на моем столе!
Закревского как ветром сдуло. Он стоял на лестнице красный от гнева и хватал губами воздух. Всех собак хотят повесить на него! Пойти и сейчас же сказать князю, что он думает по поводу такого руководства! Но Волконский под пыткой не признается, что сам потерял план. А главное – этим не поможешь. Государь, должно быть, спешно требует бумагу. Отчего у Петрохана в костях трепет. Ну, чем заклеить царские очи, Арсений, пожалуй, знал. Однако сим дело не закончится. Надобно искать план.
Вернувшись к себе в кабинет, крайне злой и расстроенный генерал достал из секретера аккуратные черновики искомого документа. Вот, у него даже побочные материалы сохранены в надлежащем порядке. Он не какой-нибудь… Одернув себя, чтобы не расходиться, Арсений вызвал одного из секретарей – престарелого и весьма опытного Порфирия Федосеевича, служившего еще во времена матушки-царицы – и посадил у себя за приставной столик, велев вторично переписать набело текст плана. На настороженный взгляд чиновника ответил просто: «Князь кофием залил. Надобно переделать». После чего запер старика в своем кабинете, а сам вышел в канцелярский коридор продышаться.
Грудь теснила обида. Начальник пытался свалить на него упущение по должности. И какое! Да еще накричал. Трус и солдафон. Право слово!
Внимание Закревского привлекла толпа писцов, толкавшихся у одного из окон. «Вон, вон пошла! – тараторили они. – Где?» Решив, что речь вновь о Толстой, Арсений глянул на улицу. По двору брела женщина в роскошной шубе из черно-бурой лисы, но с непокрытой головой, что было неприлично. Она воровато озиралась по сторонам и вдруг, заметив поленницу, метнулась к ней, схватила обледенелое полешко и спрятала за пазуху. Раздался дружный смех. «Во дает!» Приказные были в восторге. «Глядите! Глядите! Комедия!»
Арсений вновь бросил взгляд во двор. Из двери черного хода пулей вылетел Волконский. Он догнал женщину, схватил ее за руку, отобрал полено, отшвырнул и, обняв несчастную за плечи, повел прочь. У устья арки виднелась карета. Даже сквозь двойные рамы был слышен гневный окрик Петрохана кучеру, а потом уже едва различимые слова: «Я же приказывал смотреть за княгиней!»
– Что это? – не понял Арсений.
– Супруга его высокопревосходительства, – отозвался один из адъютантов, хорошенький мальчик Белосельский, тоже подошедший к окну и лыбившийся на неприглядную сцену. – У нее бывают провалы в памяти, не помнит, кто она, воображает себя нищей. В театр не ходи! Дома бриллианты можно ложками есть. А она сахар по карманам прячет, корки хлебные. Иной раз даже во дворце. Князь велел слугам за ней приглядывать, но тут не уследишь. Когда ее светлость в памяти, она очень строга. Не посмеют же дворовые спрашивать, куда хозяйка поехала.
Закревский потрясенно молчал. Он видел княгиню Софью Григорьевну при дворе вместе с мужем. Такая гордая, неприступная. В каждом ее движении сквозили холод и отчужденность. Она, как и все в ее семействе, умела сохранять дистанцию между собой и низшими.
– Вот подсуропил государь другу жену, – заключил Белосельский, как видно, знакомый со всеми подробностями внутренней жизни Волконских. – Его была любовница. А Петрохан мучайся. Право, жаль.
В этой насмешливой фамильярности сопляка-адъютанта к начальнику, уж явно не позволявшему ничего подобного в глаза, было что-то задевшее Закревского.
– Я вам искренне советую, молодой человек, – сухо произнес он, – впредь изъясняться о князе Петре Михайловиче и его супруге с приличным уважением. В противном случае вместо Петербурга вы в одну минуту можете очутиться в Тифлисе и, – Арсений помедлил, – без этих игрушек. – Он щелкнул пальцами по адъютантским аксельбантам, повернулся на каблуках и пошел прочь.
В штаб князь вернулся только глубоким вечером. Свет горел в караулке, у сторожа и в кабинете Закревского. Туда Петрохан и поднялся.
– Я хотел сказать вам, Арсений Андреевич, – начал он, переступив порог, – что вы были правы. Я действительно увозил план с собой вместе с другими документами. Перерыл весь дом. Нашел только вот это. – Волконский с отвращением протянул помятый листок, который при близком рассмотрении оказался обрывком карты Бессарабии. Они от руки рисовали ее на черновике, крестиками отмечая, как встанут части по границе. «Вот примерно так. Перенесите на нормальную двухверстку». – Я напрасно накричал на вас. Прошу меня простить. Государь ждет план дислокации завтра утром. Думаю, мне надо подать прошение об отставке и возбудить служебное расследование. Вернее, наоборот. – Он сел на стул и уронил руки. На его усталом, помятом лице отражалась полная покорность судьбе. – Ума не приложу, как такое могло случиться? Объяснением служит только невероятное количество бумаг, под которыми я буквально похоронен.
Закревский извлек из секретера спрятанный еще на исходе дня новый беловик документа.
– Ваша светлость, вы строжайше приказывали мне уничтожать все промежуточные варианты. Каюсь, я этого не делал. Десять лет военной канцелярщины вырабатывают другие принципы. Вот план дислокации, который мы подадим государю. Расследование надо начать, но наше, внутреннее. Кто-то ведь похитил документ. Причем из вашего дома. Стало быть, злодей знал о том, что подобный проект существует, раз, и был вхож к вам во дворец, два. Кроме того, понятное дело, надо подготовить новый план, принципиально иной, и аккуратно убедить государя в его преимуществах. К тому же мы не знаем, зачем похитителю понадобился документ. Поверьте бывшему начальнику Особенного департамента армии, я чувствую – неприятность размером с гигантскую коровью плюху. Отставкой делу не поможешь. Надо действовать быстро, тихо и напористо.
Петрохан поднялся. Он взял обеими руками папку, повертел, потом протянул Арсению обратно.
– Пусть полежит до утра у вас. Так спокойнее. С чего вы предлагаете начать?
– Я знаю двух покладистых чиновников в Министерстве иностранных дел. Пусть поищут следы нашего плана среди документов Нессельроде и Каподистрии. Ребята старательные, но дорого берут.
– Сколько? – рассмеялся Волконский. – Просто поразительно, у нас все можно купить!
– Рублей по пятьсот на нос.
– Однако.
– Если их скромный труд увенчается успехом, дело будет стоить дороже.
Князь пожал саженными плечами. Ему ли душиться из-за тысячи рублей?
– Деньги будут. – Он протянул Закревскому руку. – Надеюсь, не откажетесь пожать? – И повернулся к двери. – Переночую здесь, у себя в кабинете. А завтра прямиком поеду ко двору. Ну и гадостная же каша заваривается…
Арсений проследил глазами за удаляющимся по коридору начальником и подумал, что вот он беден и холост, ему некуда спешить, на квартире, которую снял, маршируют тараканы. А у человека дом – полная чаша, чины – выше некуда, царская милость – с пеленок. Но, в сущности, та же пустота и одиночество. Да еще страшный недуг жены. А впереди ничего. И с этим надо жить.
Мобеж
Вопреки предположениям Фабра, таможенников не отпустили ни на первые, ни на вторые сутки. А когда граф Михаил Семенович благосклонно вспомнил о них, он не стал гонять заместителя начальника штаба извиняться. Напротив. Отправился в караулку сам и издевательским тоном – подчеркнуто вежливым, с неизменной британской полуулыбочкой – объявил беззубым церберам, что их оружие освидетельствовано и признано «не участвовавшим в деле». Поэтому самих таможенников «не станут задерживать впредь до выяснения обстоятельств».
– Но, – напоследок заметил командующий, подтверждая серьезность своих слов изящным поклоном, – ежели бы среди вас, господа, нашелся виновный, нынче утром вы бы имели честь присутствовать при его казни через повешенье. За сим остаюсь к вам неизменно доброжелательным.
Бедолаг выгнали из караулки, посадили на телеги, вывезли за расположение русских частей, вернули ружья и предоставили возможность пешком топать до Авена. Таков был урок, смысл которого дошел до Алекса спустя неделю, когда из Бельгии, через границу, привезли почту. Без малейшей задержки. Непотрошеную. Что в последнее время бывало редко.
– Медведь сдох, – сказал Казначеев, вскрывая туго запечатанную пачку «Амстердамского Меркурия» – газеты для солидных людей, интересующихся серьезной политикой, биржевыми котировками и новостями высокой культуры. – Их сиятельство уже второй месяц брезгует брать в руки книги после таможенников. Он сам любит разрезать страницы.
О да! Изящные вкусы графа были известны. Помнится, он научил Фабра определять качество издания по запаху типографской краски, а место изготовления журнала – по шелесту страниц, изобличавшему способы брошюровки:
– Дрожайший Алекс, у каждого камина есть тяга. Подставляете журнал вот так… Да не так, он сейчас полыхнет! А вот так, и слушаете. Слышите? Вот это Лондон. А вот это отечественное барахло. Не могут тетрадку в корешок вшить! Les conquérants du monde![4]
История с Ярославцевым послужила поводом для наказания не в меру ретивых французских чиновников за досады, причиненные квартирующим русским. Корпус располагался на севере Франции, и долгое время таможни на бельгийской границе не существовало. Морским путем удобнее было получать корреспонденцию из дому, в чем правительство Объединенного Королевства Нидерландов оказывало «дорогим гостям» любезную помощь. Попробовало бы оно покочевряжиться! Через Антверпен, Амстердам и Брюссель посылки шли без досмотра.
Однако французская сторона, по осколкам собиравшая свой государственный аппарат, возложила обязанности пограничного контроля на авенскую таможню. С тех пор казаки не могли дождаться домашнего табака пополам с опилками, а господа офицеры – любимого сатирического листка «Желтый карлик». В Брюсселе – так близко от галльских рубежей! – бушевала бонапартистская эмиграция: новоявленные князья и графы времен империи пробовали свои силы в изящной словесности и вели с Бурбонами газетную войну.
Русские на правах спасителей Европы не считали себя никому ничем обязанными. Поэтому в Мобеж изобильно поступали издания, запрещенные на остальной территории королевства. Из расположения оккупационных войск они скорехонько оказывались в Париже, завезенные туда каким-нибудь удалым гусаром в седельной сумке. И это, как говорил граф, было в списке претензий короля Луи Дважды Девять[5] пунктом «Last but not least»[6].
Сегодня, 21 января, его сиятельство наконец получил «дружескую просьбу» герцога Веллингтона – главы объединенного командования – прибыть в Париж. Было ясно, что графом недовольны. Но, поскольку каждый из национальных корпусов вел себя достаточно независимо, ничего, кроме очередного сетования: «Дорогой Майкл, на меня давят, и я обязан довести до вашего сведения крайнее огорчение его величества…» – Воронцова не ожидало.
Но визит к англичанам был уместен. По журналу отправки курьеров выяснилось, что накануне гибели Ярославцев ездил в гоф-квартиру британских войск в городке Камбре, а оттуда в столицу с обычной почтой. Существовали бесчисленные формы и циркуляры, которыми обменивались военные чины во избежание делопроизводственной скуки. Союзники оповещали друг друга о намерении провести учения, количестве больных в лазаретах, посаженных на гауптвахту и подвергнутых иным взысканиям, ценах на фураж, продовольствие, кожи и сукно для солдатских курток и вообще порождали горы бесполезной документации, среди которых нет-нет, да и проскальзывали очень любопытные шифровки. Например, официальное заверение русского правительства в том, что флот, вышедший из Кронштадта, вовсе не намеревается усиливать собой корпус Воронцова. Или столь же конфиденциальная нота британской стороны о несостоятельности слухов, будто Наполеон вновь бежал из мест заключения на Святой Елене.
Поскольку курьерская сумка Ярославцева была найдена рядом с телом пустой, это могло означать три вещи. Либо он не довез почту, либо исполнил задание благополучно и возвращался порожним, либо имел некие документы из английского штаба, которые ныне утрачены. Так как британская сторона не задавала никаких вопросов и ни о чем не напоминала, следовало предположить, что почту Митенька доставил, а ответных бумаг не взял. Все это стоило ненавязчиво выведать, конечно, не у самого Веллингтона – была герцогу нужда вникать в штабное крючкотворство – а у нижних чиновников, для разговора с которыми граф прихватил верного Казначеева.
На рассвете – их сиятельство имел привычку вставать с петухами – они сели в закрытую коляску и покинули Мобеж. Впереди было восемь часов дороги. Граф любил помолчать и почитать газеты. Невозмутимый адъютант никогда не нарушал спокойствия командующего. При нем всегда имелась книга или текущая почта. Он никогда не заговаривал первым и не позволял себе брать издания, еще не распечатанные начальником. Все эти особенности поведения подчиненного Михаил Семенович очень ценил.
Взяв в руки «Амстердамский Меркурий», граф углубился было в статью о действиях повстанцев Симона Боливара, но через минуту опустил газету на колени и уставился в окно. Война настолько опротивела генерал-лейтенанту, что описания пальбы вызывали у него желудочную резь. Стреляли везде – от Греции до Венесуэлы. И временами Воронцову казалось, что мир вот-вот начнет блевать патронами. Между тем остро хотелось домой. Правда, он не знал, в Петербург или в Лондон. Предпочел бы поехать к отцу и сестре, но там в последнее время имелся один тяжелый пункт, разговоров о котором Михаил Семенович избегал всеми силами.
Его хотели женить.
То-то новость! После войны женятся все. Ничего удивительного. Из-за непрерывных кампаний начала века семьями не успели обзавестись ни ветераны 70-х годов рождения, ни его сверстники 80-х, ни молодняк начала 90-х. Все скопом попали на великую бойню, многие погибли, иных искалечило, но и те, кто остался, был в такой степени пережеван, измотан, потерт, что мало годился в отцы семейств.
Но, вишь ты, чуть только забрезжила надежда, будто мир продлится более двух лет (сам Воронцов в это не верил), как изрубленные калеки потянулись в отставку. Без рук, без ног, а некоторые, по ядовитому замечанию Ермолова, и без головы, они пустились в марьяжные пляски на лужку. Сам Алексей Петрович холостяцких привычек держался твердо и в каждом письме к Воронцову высмеивал дураков, вздумавших на старости, будто чины, ордена и заслуги перед Отечеством заменят им в глазах барышень цветущие лета. Где она, эта молодость? Любезное Отечество проглотило ее, не поперхнувшись, и выплюнуло их, одиноких, контуженных, без семей и родных – греться у чужого очага. Так ведь еще и не пустят!
Много было горького в письмах с Кавказа. Но Михаил Семенович всей душой понимал правоту друга. Кому они нужны? Однако его случай был особый – последний граф Воронцов – надежда рода. Пока он становился хозяином осиротевших имений своих тетушек и дядюшек, это еще забавляло. Из его поместий можно было сложить одно небольшое владетельное княжество, поднять флаг и отправиться на конгресс монархов в Вене. Но всему этому требовались наследники. Срочно. Пока не поздно.
Поздно же могло стать в любой момент. Это ужасное открытие граф сделал ненарком. Читал очередное письмо Ермолова, от души смеялся над шутками. Проконсул рассуждал, что в потомки великим людям дается всякая шваль, и лично он не хочет, чтобы его имя трепал и унижал какой-нибудь обормот. А потом вдруг признался: «В молодости очень хотелось мне жениться на одной особе. Но она была бесприданница, а я так беден, что не знал, на какие шиши коня содержать, не то что семью. Так вот мы и встречались наездами лет пять, потом она от меня отстала. Очень мне было обидно, да что делать? Теперь, может, и стоило бы попытать счастья, но поздно. Alles kaput».
Граф Михаил перечитал строки, понял их откровенный смысл и похолодел. Ермолов был всего шестью годами старше него. На сорок втором году Алексей Петрович расписывался в полной неспособности. А чему удивляться? Он воевал с семнадцати, отправившись еще с Суворовым в Польшу. При Павле сидел в крепости. А потом каждый год – новая кампания. Во время попоек принято было мериться количеством сражений. Милорадович выставлял пятьдесят, Сеславин – семьдесят три. Михаил до них не добирал. Ермолов крыл обоих.
Кто бы мог подумать, эдакий бычина! Не человек – разбуженный медведь. Как гаркнет, как глянет – земля дрожит. И на тебе. Конечно, Ермолов вел невоздержанный образ жизни: ел так ел, пил так пил, орал так орал. Но, может быть, именно он, щедро растрачивая молодость, был прав? А Михаил, которого с детства приучили к порядку – мой руки перед едой, уши перед сном – просто лишил себя юношеских радостей? Стоило погулять вволю, теперь нашлось бы, что вспомнить, кроме рутины полковой службы. Кочевья и бивуаки на дорогах Кавказа, Молдавии, Финляндии, а потом уж и всей Европы искалечили каждого – буйных и примерных, дерзких и кротких, трусов и храбрецов.
Воронцов вспомнил, как отступали из-под Смоленска. Встали лагерем под какой-то Сычевкой. Шел дождь. Он приехал в сумерках от командующего с уже начинавшейся лихорадкой. Заполз в первый попавшийся шалаш и попытался заснуть. Среди ночи явился пьяный генерал Курута и вытолкал непрошеного гостя. Михаил безропотно полез на улицу. Под телегами мест уже не было, он лег на землю, натянув на голову шинель. Капли с одуряющим однообразием ударялись по набухшему сукну, а потом просачивались вместе с дорожной пылью, оставляя на лице грязные следы. Утром его уже трясло. Но получили приказ выступать. Он кое-как взгромоздился на лошадь, начал командовать. Вокруг сплошное месиво – пушки, телеги, отбившиеся от своих рот люди. Думать забыл о лихорадке. К вечеру отпустило.
А еще было уже на Березине при наступлении. Авангарды наводили мосты. Лес не близко. Народу мало. Лед то встанет, то двинется. К утру должны были подоспеть основные части. Рубили деревья всем наличным составом – и рядовые, и полковники. Потом таскали бревна к реке, вязали веревками, каким-то тряпьем, французскими трофейными шарфами и ремнями. По пояс в зимней воде. Были провалившиеся в полыньи. Потом Михаила не удивляло, что многие заболели. Поражало, что нашлись здоровые.
Мудрено было в таких обстоятельствах поберечься. Кому какое дело, что в твоем корпусе у личного состава поголовно цинготные язвы на ногах? Сапоги яловые. Тридцать градусов мороза. Если их снимать, то только вместе с кожей. А потому и не разувались до весны. Теперь о таких вещах и вспомнить конфузно, а тогда – ничего, у всех одно и то же.
О каких барышнях речь? Позавчера граф получил от отца письмо с радостным известием – сестра Катенька благополучно разрешилась от бремени шестым ребенком. Батюшка был в восторге, но все же не преминул напомнить, что английские чада – суть графы Пемброки, а внуков Воронцовых у него, старика, нет. Все это снова растравило душу Михаила. Во время последнего приезда в Англию он осторожно осведомился у отца, каков в их роду мужской век.
Старичок страшно смутился, но ничего утешительного сообщить не смог:
– Видишь ли, Мишенька, – начал он, – я своему батюшке подобных вопросов не задавал. Не такие у нас были отношения. Брат мой старший, канцлер Александр Романович, был не по женской части. Так что тут тоже ничего твердо сказать нельзя. Я же сам, потеряв твою маменьку, попытался, грешник, найти утешение, но не получил никакой услады, только разбередил раны и решил навсегда от этого отстать. Было же мне в ту пору сорок шесть. И до сего часа могу засвидетельствовать верность ее памяти.
Михаил призадумался. Его отец – образец добродетели, чего про себя командующий сказать не мог. Напоследок старый граф совсем огорошил сына:
– Вот что тебе надобно знать. Ежели ты пошел в нашу породу, то любить много не будешь. Мы все, как волки, живем одной парой. Тетка твоя Екатерина Романовна схоронила князя Дашкова и никого больше знать не хотела. А натура у нее была пылкая, мужа она обожала до безумия. Я имел несчастье полюбить свою двоюродную сестру, но родство было слишком близкое. Она вышла за графа Строганова и вскоре умерла с тоски. Я же оставался холост, но все равно что вдовец, пока не встретил твою матушку. С нею уже будем у Бога. Так что подыскивай невесту тщательно. Нового случая Господь может и не дать.
У Михаила Семеновича голова шла кругом. Он не чувствовал себя готовым к браку, не знал, где ищут невест, и не имел в России обычного контингента тетушек, которые брали подобные хлопоты на себя. Вчера пришло известие о смерти в Москве генерала Дохтурова, крайне опечалившее графа. Отчего-то сейчас вспомнились не его боевые заслуги, а курьезная история женитьбы.
После кампании 1807 года Дмитрий Сергеевич оказался без дела в Питере. И даже подумывал об отставке. Родных у него не было. Круг знакомых, помимо армии, не то что узок – вовсе никаков. Пятый десяток на носу. Поступать на статскую службу поздно, да и тяжело – изранен. Ехать в деревню – совсем обабиться. Тут в столицу пожаловало многочисленное семейство князя Оболенского, с которым в былые годы Дохтуров водил дружбу. Сам князь был уже совсем старенький. А всем в доме заправляла его супруга – Екатерина Андреевна, важная барыня, державшая шестерых сыновей, четырех дочек, их жен, мужей и несметный выводок внуков огромным кланом, где все купались в ее широчайших объятиях, подчиняясь не давящей, но и не отпускающей силе. Встретившись как-то на улице с этой флотилией дамских зонтиков и детских соломенных шляп, генерал был узнан, обласкан и приглашен в гости на званый вечер.
У Оболенских собирались в пять. Дохтуров пришел, был заново всем представлен, после чего сел в сторонке на стул и стал сидеть, глазея по сторонам. От природы он был человек тихий и не любил обращать на себя внимание. Рост имел невысокий, тело плотное, физиономию обыкновенную, а поскольку никогда не надевал все ордена, то и приметить его было мудрено. Невдалеке поместилась на стуле одна из младших барышень Оболенских – княжна Марья Петровна.
Когда молодежь пошла танцевать, она осталась недвижима и только покусывала краешек бумажного веера.
– Отчего вы не танцуете? – осведомился у нее Дмитрий Сергеевич.
Девушка промолчала, зато бежавший мимо с обручем постреленок бросил:
– А она у нас хромая!
– Я тебе уши оборву! – возмутился генерал. – Я видел, как твоя сестра поднималась по лестнице. Никакая она не хромая.
Тут княжна вмешалась в разговор и примирительно заявила, что брат говорит правду. В детстве она неудачно прыгнула с крыши сарая и сломала ногу. Ей удалось научиться ходить так, что хромота почти незаметна, и даже неплохо ездить верхом. Но вот танцевать достаточно ловко не получается.
– А не сыграть ли нам в шахматы? – предложил Дмитрий Сергеевич, чувствуя обязанность развлечь невольную собеседницу.
– Шахматы – игра мудреная, – робко заметила Марья Петровна – Мне, помнится, показывали, как ходит конь. Но я не уверена, что смогу составить вам партию.
– Все лучше, чем в углу сидеть, – простодушно подбодрил ее Дохтуров.
Сначала барышня не знала, как и справиться с фигурами, бросала все пешки в наступление, оставляла короля без защиты и совершала иные простительные глупости. Но уже на третьей партии сумела поставить соперника в довольно сложную ситуацию и искренне радовалась его недоумению.