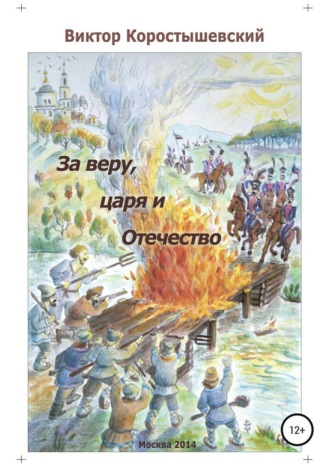
Полная версия
За веру, царя и Отечество
«Что за огонь ночью на пустом берегу? Похоже, кто-то кремнем искру высекает, куревом балуется…» – бурмистр шевельнул поводьями и не спеша начал спускаться к реке. Густая травяная стерня скошенного луга делала шаги лошади почти не слышными…
Закончив перекур, Игнатий Иванов, сорокалетний мужик, и его двоюродник Фадей Иванов тридцати лет начали заводить бредень на всю ширину Сходни. Подхватив в руки «клячи» *, браконьеры двинулись от плотины вниз по течению. Пройдя по воде полсотни саженей, Фадей, шедший вдоль правого берега, повернул к левому – в мотне билась рыба и пора было её вытаскивать. На середине реки вода доходила до плеч, и он не без труда тащил за собой «клячу».
_________________________________
*клячи – шесты, за которые тянут рыболовную снасть.
Подхватив верхние и нижние чалки, мужики осторожно начали вытягивать сеть на берег. Темная мгла скрывала их от дальнего взгляда, но вблизи они хорошо различали друг друга, действовали быстро и слаженно, обмениваясь тихими короткими командами: «тяни», «давай», «прими». Наконец, вся упруго шевелящаяся мотня улеглась на берегу. Мужики облегченно распрямились, не отводя глаз от улова.
Знакомый жесткий голос прозвучал так неожиданно, что даже небесный гром не сразил бы браконьеров сильнее. В десяти шагах от них за ивовыми кустами верхом на лошади сидел бурмистр и поигрывал плетью.
– Или овес жать, или рыбу жрать, а вместе никак не получится! – прибаутка деревенского сатрапа была зловещей.
Мужики застыли на месте, не в силах шевельнуться. Мокрая одежда облепила тела, словно путами, сковывая движения. Их преступление было таким явным, что рассчитывать на снисхождение этого зверя не приходилось. Расправу полугодовой давности над Дометием. в селе хорошо помнили.
Первым очнулся от страха Игнатий. Именно он уговорил Фадея пойти ночью за рыбой, уверяя, что Кувалда уехал в город и вернется не ранее, чем через пару дней. Рука Игнатия метнулась к ножу, висящему на поясе: терять ему кроме своей жизни, было нечего.
– Ну, Кувалда, убью!
За шаг до лошади бегущего безумца встретил сокрушительный удар плетью в лицо. В глазах Игнатия вспыхнул ослепительный жгучий свет, и в этом ярком сиянии он уже ничего не мог разглядеть. Удары сыпались сверху один за другим, обжигая лицо, шею, руки. Ища спасения, пятясь назад, Игнатий рухнул с берега в воду. От судорожного всхлипа в горло хлынула вода…
Ноги у Фадея подкосились, он упал на колени, обмирая от страха. Перед глазами его бились, изгибались рыбьи тела. Они из последних сил искали спасения. «Надо бы их отпустить, спихнуть в воду» – мелькнула у Фадея нелепая мысль, но пошевелиться было страшно: над ним, заслоняя звездное небо, висел неумолимый всесильный Дьявол, который решал, что ему делать с ничтожной земной тварью.
Дьявол тихо приказал:
– Вставай! И без глупостей! Ежели что – запорю насмерть! Иди к приказной избе!
Пленник и его конвойный вышли на черный ночной луг. Позади за жидкими пучками ивняка холодно и враждебно плескалась вода. Пленник шел молча, ни о чем не моля своего палача. Знал, это – бесполезно. Откупиться ему не чем, да и невозможно было соблазнить Кувалду: ни денег, ни угощения он никогда не брал. Ночь в чулане под замком была последней ночью Фадея в родной деревне.
Утром писарь повез связанного мужика в волость, в жандармский околоток. Суд был скорый и, с точки зрения дворянского уложения – правый: пять лет каторги. С тех пор Фадея Иванова в Юрове никогда больше не видели.
Игнатия Иванова похоронили без шума: утонул человек, с кем не бывает. Следователь в деревню даже приезжать не стал, ограничился писулькой, которую под диктовку бурмистра настрочил писарь…
* * *
С того самого происшествия на ночной реке совсем плохо стало Дарье. Давно уже никто не говорил о ней благоговейно «Святая!» – вообще никак не говорили. Просто забыли про её существование. Дарья чувствовала растущую черную пустоту вокруг, которую заполняли смердящие привидения. Чьи-то тени или оскаленные лица появлялись и исчезали в её маленьком ночном оконце. Она и сама уже не помнила о том, что когда-то мастерила кокошники, шила и расшивала узорами одежду. Приступы падучей участились, но отца чаще всего не было рядом, и она, помертвевшая, скрученная судорогами, с прокушенным языком, часами лежала в неудобной позе, медленно приходя в себя.
Дарья перестала замечать присутствие отца в доме, перестала слышать его голос, даже когда он окликал её. А может он и не окликал? ни о чем не спрашивал? ничего не говорил ей? Худой, вечно голодный кот, незаметно и окончательно исчез из дому – Дарья этого тоже не заметила. Она и сама всё больше походила на больную, зараженную лишаями, неопрятную кошку, которая не знала для чего и зачем живет. Она часами лежала ночью без сна в своей крохотной горенке, слушая завывания дымохода, нескончаемую мышиную возню, однообразную песню сверчка, которую не заглушал даже храп отца за тонкой перегородкой.
Сквозь хор ночных звуков Дарья слышала голоса на другой половине дома, где жил её одноутробный брат с женой и двумя детьми – десяти и восьми лет. Яков свою половину расширил, приткнул к ней теплый флигель, небольшой хлев, на задах поставил сарай для сена. За все годы ни Яков, ни племянники, ни разу не зашли к ней. Никто не приходил к ним в дом.
Дарья лежала на сундуке, перехваченном металлическими полосками, и её уже не первую ночь преследовало одно и то же видение: она плывёт по небу на облаке в окружении белоснежных ангелов. Они летали вокруг Дарьюшки, садились рядом с ней на невесомый край перины, о чем-то беседовали и смотрели на неё. Потом они смотрели вниз, и Дарья тоже смотрела вниз. С небесной выси она видела неширокую серебристую речку в зеленых берегах. В сверкающей воде лицом вниз плыл человек. Когда облако поравнялось с ним, он поднял голову, и Дарья увидела, что у человека нет глаз, черные глазницы пересекали глубокие шрамы, но он улыбнулся Дарьюшке и, опустив голову, поплыл дальше. Она спрыгнула с облака и, скользнув вниз, пошла за ним по сверкающей воде…
Широко раскрытыми глазами Дарья смотрела в темное оконце, за которым опять, то приближаясь, то исчезая, маячила чья-то тень. Ни глаз, ни носа, ни рта разглядеть было невозможно, но Дарья знала, что ночной гость пришел к ней и, услышав осторожные шаги в сенях, нисколько не удивилась и не испугалась. Она встала, сняла с божницы лампадку, и пошла босиком, в белой сорочке встречать гостя.
В сенях никого не было, крохотное желтое пламя освещало только её руки, едва достигая стен. Дарья потопталась, повернулась назад и увидела голову, вернее, глаза, в которых прыгал огонек лампады, мокрую полоску зубов, огромные руки, гладящие темно-синее острие топора. Девушка глухо вскрикнула, тело её затряслось в конвульсиях, и она упала на сухие холодные плахи пола. Лампадное масло растеклось, фитиль, освобожденный от оков, затрепетал веселее и ярче…
Когда пляшущий свет пожара вломился в окна соседних изб, прибежали люди, помогли семье Якова что-то спасти от огня, увели детей и животных, защитили сено. Спасать другую половину дома было уже поздно, да и желающих лезть в пекло не было. Утром, среди дымящихся головней нашли обгоревшие останки двух человек. Поскольку погиб бурмистр, приехал разбираться следователь, но, покрутившись на пожарище целый день, никаких признаков убийства или злонамеренного поджога не обнаружил. Списали на несчастный случай – и дело закрыли.
* * *
Может показаться, что над сходненским поместьем князя Меншикова витал неодолимый рок: то с одним бурмистром произойдет темная история, то с другим, то управляющий запутается в махинациях… Такие истории случались часто и повсеместно. Нередко бывало, что помещик или управляющий доводил своих крестьян до такой отчаянной смелости, что те хватали злодея за грудки, волокли на конюшню и секли его розгами, не думая о том, что будет завтра. А назавтра их ждала Сибирь, каторга, рекрутчина, арестантская рота…
Власть помещика и его управляющих над крестьянами была беспредельной. Их могли проиграть в карты, обменять на лошадей или столовые сервизы, продать фабриканту-заводчику, переселить в другие места. Помещик, продавая мужа отдельно от жены, а детей – от родителей, и не считал, что поступает бесчеловечно. Крепостную семью из пяти человек продавали в начале XIX века за восемьдесят – сто рублей ассигнациями (ассигнации дешевле «настоящих», серебряных денег в два-три раза).
В газете «Московские ведомости» за 1802-1806 годы не были редкостью объявления: «продаются девка лет 30 и молодая гнедая лошадь», «продается малый 17 лет и мебели», «продается горничная – очень уж умна, в барыни захотела». Проиграть горничную в карты считалось среди малопоместных русских дворян особым шиком…
Когда-то, ещё при молодом Петре I, барщина составляла два дня в неделю. Юровские и машкинские мужики спустя сто лет об этом уже и не догадывались. С трудом помнили они барщину четырех – пятидневную, потому как работали на барина (вернее, на управляющего) по шесть, а то и семь дней в неделю. Тех, кто на работу не выходил (даже по болезни), приказчики колотили палками для острастки других. Если крестьянин от побоев умирал или становился калекой, самодуров-помещиков под суд не отдавали.
Конечно, помещику, управляющему, или приказчику закон убивать крепостных крестьян не разрешал, но убийства случались в каждом имении. И если вдруг принималось решение наказать виновного, то происходило это исключительно символично. Нельзя же подрывать государственные крепостные устои…
В 1806 году молодым русским дворянином, публицистом и поэтом Андреем Сергеевичем Кайсаровым была опубликована смелая и очень передовая диссертация «Об освобождении крепостных в России». Опубликован сей труд отнюдь не в России, а в Германии, где крепостное право предавали анафеме, начиная с эпохи Возрождения.
Неисповедимы пути Господни. В 1812 году профессор русской словесности Кайсаров, будучи патриотом, записался в русскую армию, служил в типографии при главном штабе. Всезнающие штаб-офицеры не преминули подсунуть его диссертацию Михаилу Илларионовичу Кутузову, ярому стороннику крепостничества. Пробежав глазами крамольный труд, генерал возмутился, затопал ногами: «Эта писанина есть ни что иное, как набат, призыв к бунту, она зловредна и терпима быть не могущая» … Чтобы завершить нечаянное отступление от главной темы, сообщу, что Андрей Кайсаров ушел из штаба в партизанское сопротивление, где и погиб в тылу противника…
Назначать нового бурмистра из местных мужиков, вместо погибшего Василия Петрова, Главная московская контора Меншикова не стала. Очень уж убого жила деревня под жестоким неграмотным бурмистром. Хотелось видеть что-то напоминающее жизнь и порядок немецких колоний Поволжья, поэтому на должность управляющего сходненской вотчиной был приглашен сорокалетний морской офицер в отставке Гохман Альберт Карлович.
Откуда появилась такая убежденность, что любой немец, будь то сапожных дел мастер или морской офицер – большой специалист по обустройству русской деревни? Мол, стоит только поставить во главе сельской общины немца, как она сразу, благодаря германскому порядку, цивилизации и прогрессу, начнет удивительным образом преображаться и процветать?
Альберт Карлович говорил по-русски вполне сносно, но с таким акцентом, словно специально подчеркивал своё иностранное происхождение. Порой эта нарочитая неправильность речи раздражала не только деревенских мужиков, но и чиновников Главной конторы Меншикова.
Поселился Гохман по традиции в старом господском доме сельца Филино. После увольнения проштрафившегося секунд-майора Хорькова, филинского бурмистра (из местных мужиков) Ивана Лося в господский дом не пустили. Там жила старая экономка и немногочисленная прислуга, которая блюла в доме порядок. Редкие гости из московской конторы и разная меншиковская родня, проезжая по Петербургскому тракту, иногда останавливались здесь на ночлег.
Лось – это не фамилия, а прозвище. Родилось оно в результате скандальной свадьбы. У молодого мужа после первой брачной ночи появились сомнения в целомудренности суженой. Утром он закатил грандиозный скандал, обвинив всю женину родню в обмане. Молодых с трудом помирили, но большие рога прикипели к Ивану сразу и навсегда.
На новое место службы Альберт Карлович Гохман прикатил в сопровождении меншиковского секретаря Стефана Ефимовича Шубенского, который всю дорогу рассказывал новому управляющему о немецких колониях в Поволжье, где он имел честь побывать вместе с Его светлостью князем Сергеем Александровичем три года назад.
Приехав в Филино, Альберт Карлович Гохман дал распоряжение собрать утром следующего дня мужиков в центре поместья, то есть в Машкино. Что он им будет говорить, управляющий пока не знал, но не сомневался, что найдет нужные слова, как только увидит толпу местных крестьян.
На другой день Альберт Карлович проснулся в восемь утра. Молодой слуга, услыхав, что барин зашевелился, просунул голову в дверь и уважительно, но без подобострастия поинтересовался, что подать господам на завтрак: – кофею или чаю?
Гохман – сильный и мускулистый – вскочил с постели, сгоняя последние остатки сна. Завтракая, он почувствовал легкое волнение из-за предстоящей встречи с мужицким сходом. За окном было пасмурно – не зря накануне под окном громко квакали лягушки. У ворот, почтительно сняв картузы, стояли деревенские приказчики – пришли доложить, что народ собрался. Слуга принес барину вычищенные до блеска ботинки, подал сюртук.
Гохман и Шубенской вышли во двор. Пахло свежей зеленью и влажной землей. К воротам подкатила пролетка и господа отправились в Машкино. Около сотни мужиков заполнили проезд в центре деревни; глубокая колея разбитой дороги была заполнена глиной. Ни одного зеленого островка не было на деревенской площади – кругом топкая грязь.
Гохман покрутил головой, поджал губы и предпочел остаться в коляске. Шубенской Стефан Ефимович даже не стал изображать, что хотел бы сойти на землю. Мужики, увидев господ, начали снимать шапки и картузы. Многие стояли, согнувшись в поясе, опёршись на палки, и были заметно смущены тем, что не могут перед новым управляющим в знак уважения встать на колени. Гохман смотрел сверху на седые, плешивые, нечесаные головы и прикидывал, с чего бы начать. С экспромтом что-то не заладилось.
Сверху мелкими капельками сыпала теплая морось, она блестела на волосах, впитывалась бородами, темнела на ворсе крестьянских кафтанов. Мужики, осмелев, смотрели на управляющего и ждали, что он им скажет. Породистое, холеное лицо барина украшали густые усы и шотландская бородка, слегка завитые волосы были аккуратно зачесаны назад, под глазами висели мешки – след тайных пороков или большого утомления переездом. Белые руки красиво держали черный цилиндр.
«Индюк!» – тихо обронил кто-то. Словцо понравилось и навсегда приклеилось к бывшему флотскому офицеру. Альберт Карлович, стоя в коляске, не мог расслышать своего, только что родившегося прозвища, но перемену настроения толпы уловил – оно было не в его пользу. Молчание становилось смешным. Обстановку разрядил находчивый, самоуверенный Стефан Ефимович:
– Господин ваш, светлейший князь Сергей Александрович, направил вам нового управляющего, человека ученого, служивого, хозяина доброго и рачительного. Отныне все распоряжения Альберта Карловича Гохмана вам надлежит исполнять неукоснительно.
– А говорить-то он могёт? – прилетел из толпы голос.
Секретарь с улыбкой посмотрел на управляющего:
– Альберт Карлович, уважь своих мужиков, объясни им, что к чему прислоняется: метла к дому или дом к метле.
У Гохмана от вчерашнего благодушия и сентиментальности, и следа не осталось, даже речь его стала подчеркнуто немецкой:
– Я глядеть на вас и видеть, что ви не льюбите аккуратность и порядок. Такой дорога нельзя иметь. Ви избалованы, здесь долго не был настоящий хозьяин. Я видеть отчеты – это имение приносить мало дохода, но теперь много будет другое, ви будете работать льючше. В каждой деревне будет староста, который будет исполнять мои указания.
На следующий день старосты Юрово, Машкино, Филино собрались в конторе управляющего. Альберт Карлович достал рукописный журнал, какие-то листки, записки; нашел, что нужно, и начал просвещать своих помощников:
– По новому положению крестьян можно наказывать только по доказанной вине, не более 25 ударов розог; если один человек дважды был наказан 25 ударами розог, то в третий раз наказание увеличивается до 50 ударов. Каждое наказание записывается в журнал. Четвертое наказание докладывается в Главную контору с описанием вины, и оттуда будет высочайшее указание, как поступить с нарушителем: либо переселить в другую местность, либо отдать в солдаты, либо в арестантскую роту…– Гохман поднял голову: – Никакой беззаконий или самодурство, как было раньше, больше не будет…
ДЕРЕВЕНСКИЕ БЫЛИ И НЕБЫЛИ
Глава 3
Чем глубже Альберт Карлович Гохман вникал в жизнь русской деревни, тем больше испытывал к ней неприязнь. Жила она вроде бы по писаным законам, но в итоге всё получалось по не писаным. Да и те, которые писаные, вместо надежной опоры всему здравому и полезному, висели над людьми карающим мечом, запрещая всё и вся.
Первое время управляющий пытался что-то внушать мужикам, и даже настаивал на выполнении своих чудаковатых прихотей: привести личные дворы и постройки в божеский вид, выкопать канавки вдоль дорог, убрать грязь… Но хитрый мужик сразу потребовал за это уменьшить оброк, снизить налоги, отменить штрафы, простить долги – тогда, мол, наскребём грошей на ваши барские затеи.
Главная московская контора отнеслась к начинаниям въедливого немца с недоумением: чистота и порядок, вообще-то, дело хорошее, но о снижении оброка или податей не смей и заикаться. «Вы, Альберт Карлович, не понимаете, что Россия – это не Германия. На русской земле немецкие порядки не приживаются. У наших крестьян ум изощреннее немецкого; если наш мужик говорит, например, «два», имея в виду доходы, то никому неизвестно, сколько у него при этом на ум пошло».
Не понимал Гохман и того, что нарочитая нищета крестьянских жилищ, босоногие и голозадые дети есть попытка крепостных людей уберечься от алчных глаз. Не дай бог хозяину увидеть в доме мужика достаток. Тогда от неурочных дополнительных поборов не отвертишься.
Крепостной деревенский народ до того привык маскироваться нищетой, что она стала образом жизни. Обитателям убогих жилищ и в голову не приходило замостить двор камнем, купить красивую посуду, нарядную одежду, отмыть и одеть вечно чумазых, сопливых детей…
В конце концов, Гохман и мужики притерпелись друг к другу. Альберт Карлович оставил свои бесплодные попытки переделать окружающий мир, обратив все свои эстетические замашки на обустройство собственного гнездышка. Уют и порядок в доме он ценил очень высоко.
На стенах гостиной не замедлили появиться весьма интересные картины, написанные маслом. Большое венецианское зеркало в овальной раме старомодного рококо притягивало взгляды гостей изысканными завитушками; угловой диван, обтянутый розовым в мелкий цветочек шелком, был щедро завален вышитыми подушками. За диваном на прочной подставке из ценного дерева стоял мраморный бюст древнегреческого философа Протагора, который всю жизнь морочил головы аристократам Акрополя: «Нет истин на земле, и Бога нет!». Перед диваном лежала шкура матерого волка с оскаленной пастью; его остекленевшие глаза смотрели на всякого входящего грозно и неотступно. Какая прекрасная аллегория! Гохману мнилось, что этот зверь олицетворяет его самого…
Кабинет вмещал в себя застекленный шкаф с книгами, массивный письменный стол с внушительным креслом, мягкую тахту, застеленную шотландским пледом – для дневного отдыха. Гордостью хозяина был ломберный столик с инкрустацией из дорогих полированных камней. Поскольку гости-картежники были в этом доме большой редкостью, то Альберт Карлович убивал своё одиночество, раскладывая на столике пасьянсы. Особенно любил «Петуха в своей деревне», когда короля червей окружали четыре дамы…
Надо отдать должное Гохману – управляющий любил и умел жить красиво.
Через полгода после вступления отставного офицера в должность управляющего, в Филине, наконец, появилась его жена – молодая, красивая баронесса Амалия Михайловна Козловская, дочь генерала, имевшего богатое имение под Ревелем (ныне Таллинн – прим. автора).
Амалия приехала не одна – с сыном пяти лет и трехлетней дочкой, в сопровождении бонны – обрусевшей англичанки. Пасторальная деревенская идиллия на берегах Сходни продолжалась недолго: через пару месяцев быстрая в принятии решений баронесса сняла в Москве квартиру и укатила в белокаменную с детьми и гувернанткой. Сельская жизнь даже в уютном гнездышке мужа ей совершенно не приглянулась: от «немецкого порядка» веяло скукой и однообразием. Всё, что было интересно обсудить, супруги обмусолили в три дня. За пределами дома заняться Амалии было совершенно нечем. Не ходить же ей, в самом деле, с корзиной, как крестьянской бабе, по дубравам и ельникам грибы-ягоды собирать! Маленькие барчуки тоже не нашли здесь товарищей – с деревенскими детьми они разговаривали на разных языках и потому не понимали друг друга.
Благодаря регулярным поездкам Альберта Карловича в Москву, у него не возникало ощущения брошенного мужа, наоборот, после небольших разлук любовь Амалии всегда была желанной и романтичной.
Самодурства при Гохмане действительно стало меньше. Местные мужики были к управляющему справедливы – хотя он и немец, но человек оказался вполне порядочный и даже благородный, зря никого не обижал. Только работать «по-немецки» мужики всё равно не стали – никакой выгоды для себя они в этом не видели.
Однажды во время приезда Гохмана в Главную московскую контору там вспомнили свечную историю с отставным секунд-майором Хорьковым, давно разжалованным в рядовые. Идея поставить в Машкине мастерскую по производству свечей Альберту Карловичу понравилась сразу, и он получил на то официальное благословение.
Машкино в те времена зело бедствовало. И без того маленькая деревня делилась на две вотчины: Меншикову принадлежало восемь дворов и шестьдесят три души обоих полов, а князю Долгорукову – четыре двора с тридцатью пятью душами. Конечно, любой заводик или мастерская пошел бы нищей деревне на пользу.
Для свечной мастерской за лето поставили бревенчатый сруб, соорудили амбар для сырья и готового товара, сделали навесы для дров. Ещё по весне Гохман отправил Петра Трофимова, тридцатидвухлетнего женатого, но бездетного мужика в село Старицу Тверской губернии учиться мастерству на свечном заводе. Счастливая мать Петра утром и вечером клала поклоны перед божницей, каялась в своем грехе и, промаявшись месяц, пошла к батюшке Георгию Иванову на исповедь.
– Прости меня, батюшка, грех на мне большой. Прошлой осенью не приходила на исповедь, не причащалась… – Мария Дмитриева сглотнула комок, замолчала…
– Это мне ведомо. Говори, ничего не скрывая, раба Божия Мария.
– Овдовела я прошлый год. Муж-то мой Трофим переселся * на поле, сильно хворал. Как уж я просила Господа о милости, но не уберег Он мужа. А следом и внука Гавриила забрал. Хворали мы тогда, все в лежку лежали – никто не помог. Бедствовали страшно. Упясталась ** я, разуверилась в милости Божьей, потому и не пошла на исповедь… – Мария снова замолчала.
______________________________
* Переселся(устар) – надорвался работая.
** Упясталась (устар) – сильно устала.
– Что же ты нынче пришла?
– Стыдно мне перед Богом, виновата я перед Ним. Сына моего Петра мастеровым сделали, деньги хорошие платят, видно дошли до Господа мои молитвы и слезы. Прости меня, батюшка!
– Бог простит. Да видно уже простил, коли не оставил тебя своей милостью. Впредь такого греха на душу не бери, может статься, что не успеешь исповедаться и покаяться, тогда на том свете никогда покоя не найдешь. Иди с миром, раба Божия Мария… Всё у тебя будет хорошо!
* * *
Не только свечной мастерской запомнился мужикам управляющий Гохман. В десятом году на Масленицу он такой устроил переполох, в такой азарт мужиков ввел, что и спустя годы вспоминали в деревнях про тот случай.
Вернее сказать, не сам Гохман праздничный переполох устроил – этот педант и сухарь не способен на удаль и размах, а дружок его, сослуживец по морской службе. В общем, расскажу всю историю по порядку.
Альберт Карлович был человеком гостеприимным, но не часто скрашивали желанные гости его одиночество в деревенской глубинке, а нежеланные, которые появлялись гораздо чаще, чем ему хотелось бы, были для Гохмана всегда в тягость. Пустопорожние длинные разговоры во время вечерних посиделок раздражали и утомляли его, и лишь положение хозяина дома удерживало за столом.

