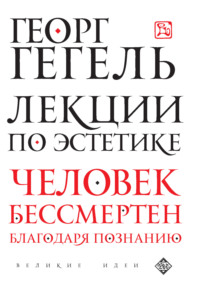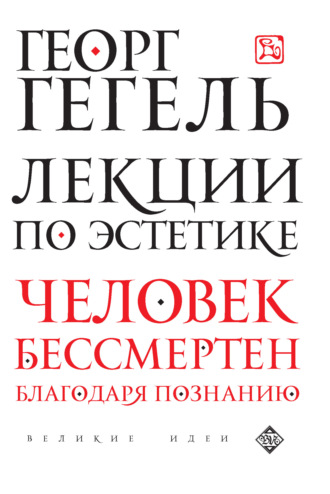
Полная версия
Лекции по эстетике
Однако, отводя искусству такое высокое место, мы должны вспомнить и о том, что искусство ни по своей форме, ни по своему содержанию не составляет высшего и абсолютного способа осознания духом своих истинных интересов. Вследствие своей формы искусство ограничено также и определенным содержанием. Лишь определенный круг и определенная ступень истины могут найти свое воплощение в форме художественного произведения. Для того чтобы данная истина могла стать подлинным содержанием искусства, требуется, чтобы в ее собственном определении заключалась возможность адекватного перехода в форму чувственности. Такого рода истиной были, например, греческие боги. В противоположность этому существует более глубокое понимание истины, когда она уже не является столь родственной и дружественной чувственности, чтобы чувственный материал мог принять ее в себя и дать ей соответственное выражение. Таково, например, христианское понимание истины; дух нашего современного мира, точнее говоря, дух нашей религии и нашей основанной на разуме культуры, поднялся, по-видимому, выше той ступени, на которой искусство представляет собой высшую форму осознания абсолютного.
Своеобразный характер художественного творчества и его созданий уже не дает больше полного удовлетворения нашей высшей потребности. Мы вышли из того периода, когда можно было обожествлять произведения искусства и поклоняться им, как богам. Впечатление, которое они теперь производят на нас, носит более рассудительный характер: чувства и мысли, вызываемые ими в нас, нуждаются еще в высшей проверке и подтверждении, получаемом из других источников. Мысль и рефлексия обогнали художественное творчество. Если кому нравится сетовать и порицать такое положение вещей, то он может считать это явление признаком порчи и приписывать его преобладанию в наше время страстей и эгоистических интересов, отпугивающих как требуемое искусством серьезное отношение, так и доставляемую им радость. Он может обвинить в этом тяжелые условия нашего времени, запутанное состояние гражданской и политической жизни, не позволяющее, по его мнению, душе, находящейся в плену у мелких интересов, освободиться от них и подняться к высшим целям искусства. По его мнению, сам ум человека поставлен на службу этим тяжелым условиям и мелким интересам дня; сам интеллект всецело предался наукам, полезным лишь для достижения подобного рода практических целей, впал в соблазн и обрек себя на добровольное изгнание в эту безотрадную пустыню.
Как бы ни обстояло дело, искусство теперь уже не доставляет того духовного удовлетворения, которого искали в нем прежние эпохи и народы и которое они находили лишь в нем. Это удовлетворение, по крайней мере со стороны религии, было теснейшим образом связано с искусством. Прошли прекрасные дни греческого искусства и золотое время позднего Средневековья. Наша современная, основанная на рефлексии культура делает для нас потребностью придерживаться общих точек зрения как по отношению к воле, так и по отношению к суждению и регулировать наши отдельные мысли и поступки согласно этим точкам зрения. Общие формы, законы, обязанности, права, максимы определяют наше поведение и управляют нашей жизнью. Интерес же к искусству и художественное творчество требуют такой жизненности, когда всеобщее существует не в качестве закона и максимы, а проявляется как нечто тождественное с душевными настроениями и эмоциями, и когда фантазия содержит в себе всеобщее и разумное в единстве с конкретным чувственным явлением.
Поэтому наше время по своему общему состоянию неблагоприятно для искусства. Сам художник не просто заражен громко звучащим вокруг него голосом рефлексии, общей привычкой рассудочно судить об искусстве, побуждающими его вносить больше мыслей в свои работы, но вся духовная культура нашего времени носит такой характер, что художник находится внутри этого рефлектирующего мира и его отношений, будучи не в состоянии ни абстрагироваться от него усилием воли и принятием решения, ни достигнуть искусственно уединения, замещающего потерянное с помощью особого воспитания и удаления от условий современной жизни.
Во всех этих отношениях искусство со стороны его высших возможностей остается для нас чем-то отошедшим в прошлое. Оно потеряло для нас характер подлинной истинности и жизненности, перестало отстаивать в мире действительности свою былую необходимость и не занимает в нем своего прежнего высокого положения, а, скорее, перенесено в мир наших представлений. Теперь художественное произведение сразу вызывает в нас не только непосредственное удовольствие, но и оценку, так как мы подвергаем суду нашей мысли его содержание, средства изображения и соответствие или несоответствие обоих друг другу. Наука об искусстве является поэтому в наше время еще более настоятельной потребностью, чем в те эпохи, когда искусство уже само по себе доставляло полное удовлетворение. Искусство приглашает нас мысленно рассмотреть его, но не для того чтобы оживить художественное творчество, а чтобы научно познать, что такое искусство.
Желая последовать этому приглашению, мы встречаемся с сомнением, которого уже коснулись выше. Если даже допускают, что искусство вообще является подходящим предметом философской рефлексии, то сомневаются, является ли оно таковым для систематического научного изучения. В этом возражении содержится прежде всего ложное представление, будто философское рассмотрение может быть и ненаучным. Относительно этого пункта я должен лишь вкратце сказать, что, каковы бы ни были представления других о философии и философствовании, я считаю, что философствование совершенно неотделимо от научности. Ибо философия должна рассматривать предмет со стороны его необходимости, и притом не только субъективной необходимости, внешнего порядка, классификации и т. д., но она должна раскрыть и доказать этот предмет согласно необходимости его собственной внутренней природы. Лишь это выявление и составляет научный характер всякого исследования. Но поскольку объективная необходимость предмета лежит в его логико-метафизической природе, можно и даже должно при изолированном изучении искусства несколько отступить от научной строгости, так как в искусстве имеется много предпосылок, касающихся частью самого содержания, частью его материала и стихии, в силу которых искусство всегда граничит со случайностью. Поэтому мы должны выдвигать аспект необходимости лишь в отношении существенного внутреннего развития его содержания и выразительных средств.
Что же касается того возражения, будто художественные произведения не поддаются освещению научной мысли, так как имеют своим источником беспорядочную фантазию и настроение и, необозримые по числу и разнообразию, действуют только на чувство и воображение, то это затруднение представляется и теперь еще не утратившим своей силы. Ибо красота в искусстве выступает в форме, которая явно противоположна мысли, и, чтобы действовать на свой лад, мысль вынуждена разрушить эту форму. Это представление связано с мнением, будто постижение в понятиях искажает и умерщвляет внешнюю реальность, жизнь природы и духа, и лишь отдаляет ее от нас, вместо того чтобы приблизить эту реальность посредством мышления, соответствующего понятию. Человек будто бы благодаря мышлению как средству достижения жизни сам лишает себя достижения этой цели. Здесь не место говорить об этом исчерпывающим образом, а мы должны лишь указать ту точку зрения, исходя из которой можно было бы устранить это затруднение, или, иначе говоря, эту невозможность, это несоответствие.
Прежде всего с нами согласятся, что дух способен рассматривать сам себя, обладать сознанием, и именно мысленным сознанием о самом себе и обо всем том, что из него проистекает. Ибо мышление составляет сокровеннейшую, существенную природу духа. Если дух подлинно присутствует в этом мысленном сознании себя и своих созданий, то, сколько бы ни было в них свободы и произвола, он все-таки ведет себя соответственно своей существенной природе. Искусство же и его произведения, возникнув из духа и будучи созданы им, сами носят духовный характер, хотя художественное изображение и вбирает в себя чувственную видимость, одухотворяя чувственный материал. В этом отношении искусство ближе к духу и его мышлению, чем внешняя неодухотворенная природа; в художественных произведениях он имеет дело лишь со своим достоянием.
Хотя создания искусства представляют собой не мысль и понятие, а развитие понятия из самого себя, его переход в чуждую ему чувственную сферу, все же сила мыслящего духа заключается в том, что он постигает самого себя не только в собственно своей форме, в мышлении, но узнает себя и в своем внешнем и отчужденном состоянии, в чувстве и чувственности, постигает себя в своем инобытии, превращая отчужденное в мысли и тем возвращаясь к себе. Занимаясь своим инобытием, мыслящий дух не изменяет этим себе, не забывает и не отрекается от себя; он и не столь бессилен, чтобы не постичь то, что отлично от него, но он постигает и себя и свою противоположность. Ибо понятие есть всеобщее, сохраняющееся в своих обособлениях, возвышающееся как над собой, так и над своим инобытием. Оно является силой и деятельностью, способной вновь устранить то отчуждение, к которому оно приходит в своем поступательном движении. Таким образом, хотя в художественном произведении мысль и отчуждается от самой себя, оно также принадлежит области мышления в понятиях, и дух, делая это произведение предметом научного изучения, удовлетворяет этим лишь потребность своей собственной природы. Так как сущностью и понятием духа является мышление, то он испытывает полное удовлетворение лишь после того, как постигнет мыслью все продукты своей деятельности и таким образом сделает их действительно своими. Искусство же, как мы это более определенно увидим дальше, не является высшей формой духа, но получает свое подлинное подтверждение лишь в науке.
Точно так же нет в искусстве такого беспорядочного произвола, вследствие которого оно не поддавалось бы философскому освещению. Мы уже указали на то, что истинной задачей искусства является осознание высших интересов духа. Из этого сразу же следует, что, поскольку речь идет о содержании, художественное творчество не может отдаваться безудержной фантазии; эти духовные интересы устанавливают определенные точки опоры для его содержания, сколь многообразными и неисчерпаемыми ни были бы его формы и образы. То же касается и самих форм – они также не предоставлены полному произволу. Не всякое формообразование способно выразить и воплотить эти интересы, воспринять их в себя и передать их, но определенное содержание определяет также и соответствующую ему форму.
И с этой стороны мы можем мысленно ориентироваться в кажущихся необозримыми многочисленных художественных произведениях и формах.
Таким образом, мы указали здесь содержание нашей науки, изложением которого мы намерены ограничиться, и убедились, что как искусство достойно стать предметом философского исследования, так и философское исследование способно понять сущность искусства.
II. Способы научного изучения красоты и художественного творчества
Если теперь мы поставим вопрос о характере научного анализа искусства, то и здесь встретим два противоположных способа исследования, каждый из которых, по-видимому, исключает другой и не позволяет нам прийти к какому бы то ни было истинному выводу.
С одной стороны, мы видим, что наука об искусстве лишь как бы извне подходит к реально существующим художественным произведениям, распределяет их согласно требованиям истории искусства, высказывает суждения об имеющихся произведениях или набрасывает теории, которые должны устанавливать общие точки зрения для оценки и создания художественных произведений.
С другой стороны, мы видим, что наука об искусстве предается самостоятельным размышлениям о прекрасном и создает лишь общее учение, абстрактную философию прекрасного, вовсе не затрагивающую художественного произведения в его своеобразии.
1. Эмпирическое начало как исходный пункт исследования
Что касается первого способа исследования, имеющего своим исходным пунктом эмпирическое изучение, то он является необходимым для того, кто готовится быть ученым искусствоведом. Подобно тому как в наше время каждый, даже если он и не является специалистом-физиком, хочет обладать хотя бы самыми существенными познаниями по физике, так для каждого образованного человека признается более или менее необходимым, чтобы он обладал некоторыми познаниями по искусству, и притязание быть любителем и знатоком искусства является довольно распространенным.
а) Но для того чтобы мы действительно признали эти познания ученостью, они должны быть многообразны и обширны. Первое требование, предъявляемое нами к ученому, состоит в том, что он должен быть точно знаком с необозримой областью отдельных художественных произведений древнего и нового времени, с произведениями, которые отчасти уже погибли в действительности, отчасти находятся в отдаленных странах или частях света и которые вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств жизни ученому не пришлось видеть собственными глазами. Кроме того, каждое художественное произведение принадлежит своему времени, своему народу, своей среде и зависит от особых исторических и других представлений и целей. Вследствие этого ученость искусствоведа требует обширного запаса исторических, и притом весьма специальных, познаний, так как индивидуальная природа художественного произведения связана с единичными обстоятельствами и его понимание и объяснение требуют специальных познаний.
Наконец, эта ученость, как и всякая другая, требует не только хорошей памяти, но и острого воображения, чтобы искусствовед мог отчетливо представлять себе характер художественных произведений во всех их различных особенностях и вызывать их перед своим умственным взором для сравнения с другими художественными произведениями.
б) Уже в пределах этого исторического рассмотрения возникают различные точки зрения, из которых мы должны исходить в наших критических суждениях о художественных произведениях. Выделенные и систематизированные, эти точки зрения образуют в искусствоведении, как и других эмпирических науках, всеобщие критерии и принципы, а в своем дальнейшем формальном обобщении они образуют теории искусств. Здесь не место приводить посвященную их изложению литературу, достаточно напомнить о некоторых произведениях в самых общих чертах, например об аристотелевской «Поэтике», теория трагедии которой представляет интерес и поныне. Еще более точное общее представление о характере подобного рода теоретизирования у древних может дать «Поэтическое искусство» Горация и сочинение «О возвышенном» Лонгина. Формулируемые в этих произведениях общие определения должны были служить нормами и правилами, которыми следует руководствоваться при создании художественных произведений, в особенности в эпохи упадка поэзии и искусства. Однако эти лекари прописывали для излечения искусства рецепты еще менее действенные, чем те, которые прописываются врачами для восстановления здоровья.
Относительно теорий этого рода я замечу лишь, что хотя в деталях они содержат много поучительного, однако их общие положения абстрагированы от очень узкого круга художественных произведений, которые эти авторы признают подлинно прекрасными, но которые составляют лишь ограниченную часть области искусства. С другой стороны, эти общие положения представляют собой частью весьма тривиальные размышления, которые вследствие своего слишком общего характера не дают возможности перейти от них к пониманию особенного, постижение которого и является, собственно, целью науки. Указанное выше послание Горация полно таких размышлений и является книгой для всех и каждого, но именно потому и содержит в себе много ничего не говорящих положений: omne tulit punctum и т. д.[2] Это похоже на многие нравоучительные правила: «Оставайся там, где живешь, и честно зарабатывай хлеб свой насущный». В общем виде это правильно, но здесь нет той конкретной определенности, с которой человек как раз и сообразует свои действия.
Другая цель теорий этого рода состояла не в содействии созданию истинно художественных произведений, а в том, чтобы способствовать образованию правильных суждений об уже созданных произведениях и вообще развивать вкус читателей. Именно благодаря этому «Основания критики» Хома, сочинения Баттеи «Введение в изящные искусства и науки» Рамлера очень усердно читались в свое время. Вкус в этом смысле означает правильное расположение частей, художественную трактовку материала и вообще надлежащую обработку всего того, что составляет внешнюю сторону художественного произведения. К этим принципам вкуса прибавляли далее психологические воззрения того времени, полученные в результате эмпирических наблюдений над способностями и деятельностью души, страстями и их вероятным нарастанием, последовательностью и т. д. Но всегда везде каждый человек оценивает художественные произведения или характеры, действия и события в меру своего понимания и душевной глубины. И так как эта культура вкуса занималась лишь внешними и незначительными моментами, а предписываемые ею нормы и правила черпались из очень узкого круга художественных произведений и столь же ограниченной умственной и эмоциональной культуры, то сфера, охватываемая этой культурой, оказывалась неудовлетворительной и неспособной как уловить внутреннюю истинную сущность искусства, так и обострить восприятие этой сущности.
В общем, метод рассуждения в подобных теориях таков же, как и в прочих нефилософских науках. Рассматриваемое ими содержание заимствуется из круга наших представлений как нечто данное. Затем ставится вопрос о характере этих представлений, так как появляется потребность в более точных определениях, которые также берутся из наших представлений и после этого фиксируются в дефинициях. Вследствие этого мы сразу оказываемся на зыбкой, спорной почве. Ибо сначала может казаться, что прекрасное является совершенно простым представлением. Однако скоро выясняется, что в нем можно находить многообразные стороны, и один подчеркивает одну сторону, другой – другую, а если даже и исходят из одних и тех же точек зрения, возникает спор о том, какую сторону следует рассматривать как существенную.
Обыкновенно считают требованием научной полноты, чтобы авторы, пишущие об эстетике, приводили и подвергали критическому анализу различные определения прекрасного. Разбирая ниже такие определения, мы не стремимся при этом ни к исторической полноте, чтобы познакомиться со всеми тонкостями многообразных определений, ни к удовлетворению исторического интереса; мы приводим лишь в качестве иллюстрации некоторые из новейших, наиболее интересных способов рассмотрения, приближающихся к истинному пониманию идеи прекрасного. Для этой цели мы напомним гётевское определение прекрасного, включенное Мейером в его «Историю пластических искусств в Греции»; в связи с этим он, не называя Гирта, излагает также и его понимание прекрасного.
В своей статье о прекрасном в искусстве («Оры», 1797, тетрадь седьмая) Гирт, один из величайших среди современных истинных знатоков искусства, сначала говорит о прекрасном в отдельных искусствах и затем приходит к тому выводу, что основой для правильной оценки прекрасного в искусстве и развития эстетического вкуса служит понятие характерного. Он определяет прекрасное как «совершенное, которое может стать или является предметом восприятия для глаза, уха или воображения». Совершенное же он затем определяет как «соответствующее той цели, которую ставили себе природа или искусство при образовании предмета по его роду и виду». Поэтому, желая составить себе суждение о красоте предмета, мы должны наибольшее внимание обратить на конституирующие его индивидуальные признаки, ибо эти признаки как раз и являются тем, что в нем характерно. Под характером как законом искусства он понимает «ту определенную индивидуальность, благодаря которой отличаются друг от друга формы, движения и жесты, выражение лица, локальный колорит, свет и тени, оттенок и поза, и притом отличаются друг от друга именно так, как этого требует задуманный предмет».
Это определение носит более четкий характер, чем предлагавшиеся другие дефиниции. Если же мы спросим далее, что такое характерное, то оно предполагает, во-первых, некое содержание, например определенное чувство, ситуацию, событие, поступок, индивида; во-вторых, тот способ, каким это содержание изображается. К этому способу изображения и относится художественный закон характерного, требующий, чтобы все частное и особенное в способе выражения служило определенному выявлению его содержания и составляло необходимое звено в выражении этого содержания.
Это абстрактное определение характерного касается той целесообразности, благодаря которой частные и особенные черты художественного образа действительно выделяют содержание, которое они должны изобразить. Если мы хотим объяснить эту мысль совершенно популярно, то укажем следующее заключенное в ней ограничение. В драматической области, например, содержанием является некое действие; драма должна изобразить, как совершается это действие. Но люди делают много вещей: разговаривают друг с другом, в промежутках – едят, спят, одеваются, произносят те или другие слова и т. д. Из этого должно быть исключено все, что не связано непосредственно с определенным действием, составляющим собственное содержание драмы, так что недолжно оставаться ничего, не имеющего значения по отношению к этому действию. Точно так же в картину, охватывающую лишь один момент этого действия, можно было бы включить множество обстоятельств, лиц, положений и всяких других событий, которые составляют сложные перипетии внешнего мира, но которые в этот момент никак не связаны с данным определенным действием и не служат его характеристике. Согласно же требованию характерности в произведение искусства должно входить лишь то, что относится к проявлению и выражению именно данного определенного содержания, ибо ничто не должно быть лишним.
Это очень важное определение, и в известном отношении оно может быть оправдано. Однако Мейер в указанном выше сочинении утверждает, что взгляд этот не оказал никакого влияния – по его мнению, к вящей пользе искусства, ибо воззрение Гирта привело бы к господству карикатурности. В основе этого мнения Мейера лежит ложная мысль, будто в таких определениях прекрасного речь идет о том, чтобы дать руководство для художника. Но задача философии искусства – не предписывать художникам, как им творить, а выяснить, что такое прекрасное и как оно проявилось в существующих произведениях искусства; она не имеет никакого желания давать правила для художников.
Помимо этого мы должны сказать по поводу мейеровской критики, что определение Гирта включает в себя также и карикатурное, ибо и карикатурное изображение может быть характерным; однако в карикатуре определенный характер необычайно преувеличен и представляет собой как бы характерное, доведенное до излишества. Но излишество не является тем, что действительно требуется для характерного, а представляет собой обременительное повторение, благодаря которому может извратиться и само характерное. К тому же само карикатурное оказывается характеристикой безобразного, а последнее является, во всяком случае, неким искажением. Со своей стороны, безобразное более тесно связано с содержанием, так что вместе с принципом характерного принимается в качестве одного из основных определений безобразное и изображение безобразного. Гиртовское определение не дает нам точных указаний о содержании прекрасного, о том, что должно и что не должно быть охарактеризовано в искусстве. В этом отношении оно дает лишь чисто формальное определение, которое, однако, содержит в себе истину, хотя и совершенно абстрактную.
Но здесь возникает вопрос, что противопоставляет Мейер гиртовскому принципу искусства, что он предпочитает? Он говорит лишь о принципе античных художественных произведений, который, по его мнению, содержит в себе определение прекрасного вообще. В связи с этим он разбирает определение идеала, данное Менгсом и Винкельманом, и говорит, что он не хочет ни отвергнуть, ни целиком принять этот закон прекрасного, однако без колебания примыкает к мнению просвещенного ценителя искусства (Гёте), так как оно является решающим и, по-видимому, ближе всего стоит к решению загадки прекрасного.
Гёте говорит: «Высшим принципом древних было значимое, но высшим достижением удачной художественной практики являлось прекрасное». Вдумываясь в мысль, заключенную в этом афоризме, мы и здесь обнаруживаем два момента: содержание, суть дела, – и способ изображения. При рассмотрении художественного произведения мы начинаем с того, что нам непосредственно дается в нем, и лишь после этого мы задаемся вопросом, в чем состоит смысл или содержание этого произведения. Не признавая непосредственной значимости за внешней стороной произведения, мы ищем скрытого в ней смысла, внутреннего содержания, которым одухотворяется внешнее явление. Внешнее указывает нам на эту его душу. Ибо явление, которое что-то означает, представляет не само себя в качестве внешнего явления, а нечто иное. Например, значением символа и в еще большей мере басни является мораль и поучение.