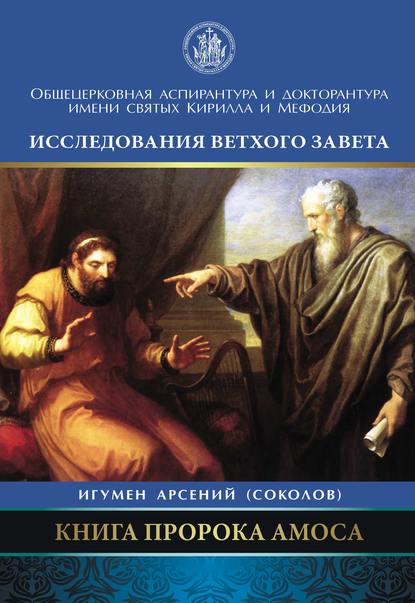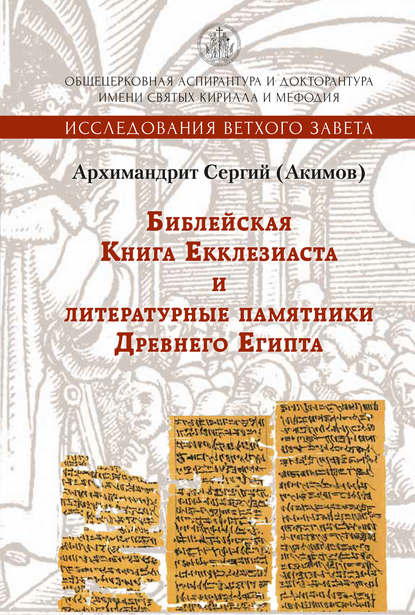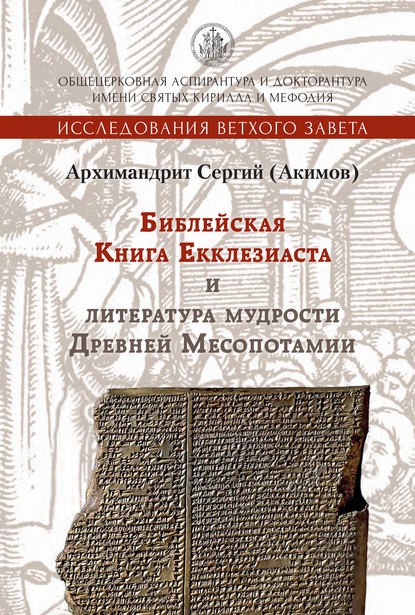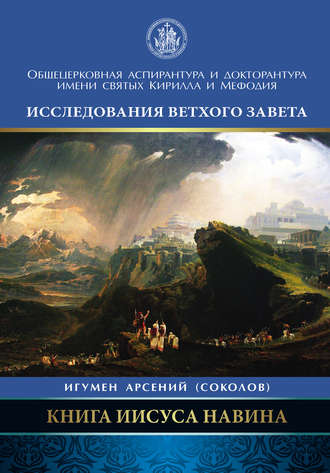
Полная версия
Книга Иисуса Навина
В эволюционном характере яхвизма заключается главная, отличная от предыдущих двух, черта этой теории. Касвальдер[120] утверждает, что последние археологические открытия демонстрируют достоверность теории «социальной революции», предложенной Готвальдом. Касвальдер говорит, что, «возможно, только “дом Иосифа” спускался в Египет и сделал исход, в то время как другие колена находились в Палестине, где позднее приняли яхвизм, который принесли им “сыны Иосифа”»[121].
Такие построения, носят, конечно, чисто гипотетический характер[122]. Однако тому, что Израиль, согласно Готвальду, сформировался из двух составляющих – выходцев из Египта и тех, кто обитал в Ханаане, – можно, как ни странно, найти соответствие в иудейском предании. Талмуд содержит предание, касающееся истории Ефрема, сына Иосифа. Согласно этому преданию, сыны Ефрема пытались преждевременно захватить Ханаан, но все они погибли в сражении[123]. Как бы ни было, большинство современных историков Израиля полагает, что Израиль был сформирован как свободная конфедерация семитских племен, скрепленных религиозным союзом-заветом. Последние археологические открытия показывают переход от поздней бронзы к раннему железу как постепенный, очень сложный процесс социальных, экономических, политических изменений, с локальными вариациями. Поскольку новые элементы материальной культуры, появляющиеся в Палестине вместе с Израилем, не находят себе аналогов вне Ханаана, это также позволяет сторонникам теории «социальной революции» утверждать, что археология находится в большем согласии с их гипотезой, чем с двумя другими[124]. Теория «социальной революции» остается господствующей по сегодняшний день.
Раскопки, проводившиеся в 80-90-е гг., не дали результатов, которые могли бы окончательно утвердить одну из трех теорий. Так что все три находят сегодня приверженцев среди ученых. В 1981 г. А. Мазар представил результаты раскопок Гило, поселения на Иудейском нагорье. Он датировал поселение эпохой раннего железа. Относительно идентификации обитателей Гило и проблемы происхождения Израиля, Мазар отвергает возможность того, что Гило могло быть основано кочевниками, ставшими оседлыми: «Археология может дать положительное свидетельство о периоде заселения новых мест, до того безлюдных, но не может предъявить свидетельств заселения кочевниками уже обитаемых мест; указывает на разрушение некоторых важных хананейских городов в результате вооруженных конфликтов между израильтянами и хананеями, но не может доказать тотального завоевания»[125]. Итак, Мазар отвергает теорию «военного захвата» и предлагает видеть в поселениях эпохи раннего железа доказательство всего лишь «заселения».
В. Фриц, последовательный продолжатель «немецкой школы», на основании раскопок в пустыне Негев пришел к заключению, что они подтверждают основной тезис Альта о «мирном проникновении» полукочевых племен в зоны более сухие и менее обитаемые. Однако хотя раскопки в Негеве и могут подтверждать такую модель заселения израильтянами Палестины, раскопки в долине Изреель и в Галилее не могут в нее укладываться. Фриц предпочитает говорить не о единовременном заселении Палестины израильтянами, а о долгом процессе перехода от хананейской цивилизации поздней бронзы, предназначенной к исчезновению, к новой, израильской, культуре раннего железа[126]. Только так, согласно Фрицу, можно объяснить то, что старые, хананейские, элементы культуры очень долго сосуществуют вместе с новыми, привносимыми пришельцами, идентифицируемыми как «израильтяне». Кроме этого, продолжается развитие старых форм: керамические изделия и культовые предметы эпохи раннего железа оказываются более развитыми формами таких же предметов эпохи средней и поздней бронзы. Фриц объясняет это так: «Несмотря на то что израильские племена были изначально полукочевыми и этнически отличными от хананеев, явная ассимиляция и продолжение развития культуры поздней бронзы предполагает интенсивные контакты с ними. Эти отношения могли являться результатом сосуществования разных экономических форм в течение долгого времени»[127].
Еще один современный библейский археолог, отвергающий теорию «военного захвата» – израильтянин И. Финкельштейн. В его тезисах, как считается, дается наиболее исчерпывающее на сегодня обоснование позиции противников теории «военного захвата»[128]. Исследования Финкельштейна сконцентрированы прежде всего на регионе, идентифицируемом с «горой Ефремовой», то есть там, где происходят многие события Книги Иисуса Навина и эпохи Судей (Гай, Вефиль, Сихем, Шило – ср.: Нав. 7–8.1 Цар. 1–3). Он выделяет некоторые характеристики заселения земли израильтянами. Раскопки не показали следов военного конфликта, но дали свидетельства постепенного взятия земли во владение. Сначала возникли израильские поселения в центральной части нагорья Ефрема-Манассии. Постепенно география поселений расширяется до территорий более отдаленных и труднодоступных, вплоть до Негева и Галилеи.
Из современных приверженцев традиционного взгляда на проблему появления Израиля в Палестине (теория «военного захвата») можно отметить В. Дэвера, ученика Райта. Относя себя к последователям старых археологов «американской школы» во взглядах на взаимоотношение Библии и археологии, он, впрочем, считает возможным подвергнуть ревизии многие идеи и заключения Райта, объясняя это тем, что за последние десятилетия библейская археология проделала немалый путь. Дэвер, отдавая историческое предпочтение Книге Судей перед Книгой Иисуса Навина, полагает, что захват Палестины представлял из себя очень долгий процесс и имел различные формы в зависимости от времени, региона и того или иного колена или группы колен. Различные формы заселения земли, согласно Дэверу, можно проиллюстрировать, сравнив, к примеру, Суд. 4–5 и войну против хананеев на севере с Суд. 17–18 и миграцией данитян[129]. В немалой степени благодаря Дэверу в последние два десятилетия наблюдается процесс примирения библейской археологии с исторической наукой Ветхого Завета.
Итак, современная библейская археология в лице самых известных своих представителей отказывает повествованию Книги Иисуса Навина в какой-либо исторической ценности. Следует заметить, что поздняя датировка появления Израиля в Палестине не позволяет ученым доверять библейскому повествованию. Так, по статистике Дэвера, только три поселения, названные в Книге Иисуса Навина (Лахиш, Вефиль, Хазор), имеют уровни разрушения ок. 1200 г. А Касвальдер, ввиду дискуссионного характера раскопок в этих трех городах, вообще говорит, что археология не дает ни одного подтверждения разрушения палестинских городов около 1200 г.[130] Но почему бы в этом случае не усомниться в поздней датировке исхода и появления Израиля в Палестине, не отодвинуть период завоевания на 200–300 лет назад и не вернуться к тому, что утверждала «американская школа» в 30-50-е гг.? Но, кажется, сегодня вопрос датировки уже и не обсуждается нигде, кроме как только в фундаменталистских семинариях США[131].
Религия хананеев
Необходимо сказать несколько слов о религиозных представлениях тех, с кем пришлось встретиться Иисусу Навину и Израилю в Палестине.
Ханаан, являясь на протяжении тысячелетий буферной зоной между великими империями, непрестанно находился под мощным культурным и религиозным влиянием Месопотамии, Египта, хеттов и финикийцев. Хананеи почитали египетских богов Гора и Хатора, фигурки которых обнаружены среди развалин, поклонялись вавилонской богине Иштар и богу Риммону[132]. Но подавляющим религиозным влиянием было финикийское влияние. По сути говоря, Финикия и Палестина являют нам одну общую религиозную картину.
Долгое время почти что единственным источником для изучения хананео-финикийского мира служили фрагменты сочинения Филона Библосского (I в. до Р.Х.), сохранившиеся у Евсевия Кесарийского[133]. Этот очень поздний и компилятивный труд Филона давал весьма туманную картину религиозного состояния хананеев до появления Израиля. У ученых не было почти никаких данных для реконструкции религиозной жизни тех времен. Столь грустное положение дел заставило авторов французской «Иллюстрированной истории религий», опубликованной в конце XIX в., сказать: «Для изучения истории хананейских и филистимских племен, за исключением надписи Мезы, не существует никаких первоначальных источников»[134].
Все изменилось, когда в 1929 г. в местечке Рас-Шамра, на сирийском берегу Средиземного моря, французскими археологами под руководством Клода Шеффера и Жана Дени было сделано открытие Угарита, древнего финикийского города-государства. Раскопки, начатые в 1930 г., продолжились до 1939 г., затем, после 10-летнего военного перерыва, были возобновлены в 1949 г. Холм, называемый сегодня Рас-ас-Шамра, явил на свет город, уже известный по письмам телль-Амарны и египетским текстам. Было найдено огромное количество терракотовых табличек, исписанных клинописными буквами, несколько отличными от общеизвестного финикийского алфавита. Язык угаритских текстов классифицируется как один из западно-семитских языков II тыс. до н. э. Тексты, расшифрованные Г. Бауэром и Ш. Виролло и восходящие к XIV в., пролили яркий свет на религию и мифологию ханаано-финикийской культуры[135]. Большая часть текстов Рас-Шамры была опубликована в журнале Syria, начиная с vol. 10 (1929).
Верховным божеством хананейского пантеона был Эль, называемый царем и отцом богов и людей. Более важная роль принадлежала, однако, небесному богу Ваалу, «восседающему на облаках». Возможно, «ваал», переводимое как «господин», является именем нарицательным[136]. В любом случае, в народной мифологии единый образ Ваала дробился на тысячи локальных божеств и духов, часто лишенных индивидуальности. Народное религиозное чувство стремилось более к Ваалу как к хозяину определенного хорошо орошаемого места, чем как к богу, «восседающему на облаках». Также, подобно имени «ваал», видимо, и имя «астарта» могло иметь нарицательное значение. Так, во Втор. 28:4 говорится: «Благословен плод скота твоего, и плод твоих волов, и астарты[137] овец твоих». Чаще всего Ваал отождествлялся с Хададом, богом грозы[138], и поэтому являлся распределителем дождя и богом растительности. Небесный Ваал, согласно финикийским представлениям, «открывает катаракты облаков».
Согласно одному угаритскому мифу, Ваал был убиваем своими врагами, имена которых – Ям и Мот, мифические персонификации моря и смерти. Ими он заключался в подземный мир, так что умирала всякая растительность на земле. В начале сезона дождей Ваал был пробуждаем к новой жизни благодаря помощи своей сестры и жены Анат и освобождался из царства мертвых, так что растительность расцветала вновь. В этом мифе полевые работы были объясняемы как помощь Ваалу. Три главные женские божества— Ашера (жена бога Эля), Анат (сестра и жена Ваала) и Астарта, не разделены четко в своих действиях: все три являются богинями материнства, произрастания, плодородия, любви и войны. В их святилищах развивается религиозная проституция: такой обряд должен реализовать соединение небесного бога Ваала с богиней плодородия, соединить небо и землю, чтобы гарантировать плодородие людей и скота и произвести богатый урожай.
Другой миф рассказывает о том, как Ям решил возвести себе дворец, подчеркивая таким способом свое желание установить первенство среди богов. Все маленькие боги, называемые «сынами Эля», решили уже было уступить Яму, как вдруг восстает Ваал, упрекает их в трусости и вызывает Яма на битву. Арбитром боя выступает великий бог Эль, который предупреждает Яма, что он имеет своим противником бога более сильного и имеющего покровительство двух богинь, Анат и Астарты. Бог ремесел Кусор кует Ваалу два молота, с помощью которых Ваал побеждает. За ним признается первенство среди богов. Отвергнув претензии бога моря, господина смерти и беспорядка Яма, Ваал вмешивается как герой-благотворитель и спасает вселенную от возврата к хаосу. Другие эпизоды этого мифа показывают более широко, как Ваал воплощает этот победоносный принцип жизни среди людей Угарита.
То, что в мифах первенство Ваала утверждается им не без труда, некоторые исследователи[139] склонны объяснять как отражение того, что почитание Ваала появилось в Угарите довольно поздно. Действительно, Ваал – не «сын Эля»[140]. Он назван «сыном Дагона», чем подчеркивается его связь со слоями населения, родственными амореям Мари.
Еще один миф изображает противостояние Ваала с богиней Мот. Установив свое первенство, Ваал устраивает банкет для богов и богинь, затем отправляется посетить города своего царства. Он поручает Кусору сделать в своем новом дворце окна. В этот момент восстает против Ваала новый противник – Мот, обитающая в темной и зловонной области. Она вынуждает Ваала сойти в свою пасть. Мот не была какой-то богиней, которая бы почиталась, она не фигурирует в списках божеств, которым приносились жертвы. Она была ни чем иным, как персонификацией смерти («мот» значит «смерть»), имеющей ненасытимый голод и неутолимую жажду. Ваал подчиняется приказу Мот и объявляет себя ее рабом. Но прежде чем сойти в зев Мот, Ваал оплодотворяет одну телицу для того, чтобы обеспечить воспроизводство стад, и затем умирает. Боги потрясены, Эль скорбит: «Ваал мертв, что будет теперь с людьми?» Однако Анат отправляется на поиски брата. Ведомая богиней солнца Сапас, которая, обходя вселенную, зная все ее укромные и темные уголки, находит пораженного смертью Ваала и приводит Анат к нему. Сапас помогает Анат отнести брата на гору Сафон. Затем разъяренная богиня настигает убийцу брата, хватает Мот, рассекает ее мечом надвое, затем жарит, мелет и рассеивает через сито по земле. Это – знак возвращения к жизни Ваала, о котором Эль узнает через сон, в котором видит жир, каплющий с неба, в то время как реки текут медом. Ваал возвращается на трон и приходит в ярость, которая есть не что иное, как мистическое описание грома.
Эта часть цикла Ваала связана с обрядами плодородия. Ваал – хозяин дождей и гроз, которые он посылает в начале весеннего сезона. Дождь, образовывающийся на небе, должен оставить его, пасть на землю и оплодотворить ее, – это причина, ради которой Ваал отверзает окна своего дворца. Земные храмы Ваала – не что иное, как отражение небесного его жилища, и являются «окнами небесными», низводящими дождь на землю. Ваал оставляет небесное жилище, сходит на землю, чтоб напоить ее, иссушенную суровым сирийским летом, своим питательным соком. Сирийское лето – царство Мот, царство смерти. Подземный мир получает с неба воду, посылаемую для нового цветения земли, но не может удержать ее вечно. Мот должна уступить и вернуть тело Ваала, которым она была напитана. Сапас и Анат возвращают Ваала с земли на небо. Первая представляет в этом случае солнечную энергию, заставляющую воды испаряться, другая кажется воплощением источников, собирающих влагу, содержащуюся в земле. Согласно Каку[141], слово «анат» имеет значение «источники». Осенние облака – знак надежды на новый год жизни – символизируются восхождением на гору Сафон, своего рода угаритский Олимп, которую те, кто слушали эти поэмы, возможно, отождествляли с Гибель-эль-Акра, в древности называемой горой Касио, доминирующей в области, где находится Рас-Шамра. Такого типа могли быть тексты ежегодных богослужений возвращения дождя и богослужений плодородия, существеннейшего элемента в религии любой земледельческой цивилизации.
Угаритские мифы отражают типичные заботы восточного крестьянина. Засухи, нередко следующие год за годом, связываются с битвой Ваала против Мот. В конце концов Ваал выходит из этой битвы победителем, после того как Эль выносит свое решение против Мот.
Культы, тесно связанные с земледелием, часто возбуждают религиозность эмоциональную и страстную, с чередованием рыданий и ликований. Скорбь Анат, вызванная исчезновением Ваала, когда она разрывает свою грудь, является моделью поведения верующих, когда они плачут и истязают себя. Радость Эля, когда он узнает, что Ваал вернулся к жизни, – это праздничное веселье, вызванное возвращением облаков. «Не трудно понять, – пишет Каку, – как Ваал стал для угаритского народа более популярным, чем его старые боги: разве не был Ваал для них даром, гарантирующим возможность выживания? Рядом с ним Эль оказывается несколько отодвинутым на второй план. Однако и он не остается богом бездеятельным, напротив, распределение функций между Элем и Ваалом кажется равномерным. Элю, называемому «быком», принадлежит ввиду его старости бездонная мудрость, всезнание, доброта и милосердие, он всегда выносит решения к пользе человека. Ваалу, «тельцу», свойствен юношеский пыл, сексуальная сила, победоносность в сражениях, активное и спасительное вмешательство, позволяющее преодолеть природный беспорядок и обезопасить существование угаритского народа»[142]. Два божества – не на одинаковой дистанции от людей: в то время как Ваал находится на облачном небе, которое касается земли на вершине горы Сафон, Эль живет в совершенно таинственном месте, «у источников рек, у слияния двух океанов», то есть, возможно, в месте, где воссоединяются два водных русла, которые омывают обитаемую землю. Не поэтому ли «начальствующий в Тире» говорит: «я бог), восседающий на седалище божием, в сердце морей» (Иез. 28:2)? Если Ваал является в борьбе против Яма как хранитель космического равновесия, то Эль – это отец богов и людей, «творец земли». Таковым почитается Эль в Угарите согласно письменным памятникам Рас-Шамра, так позднее называют его в Пальмире и в Лептис Манья.
Религиозный пыл, выраженный в мифах Рас-Шамра, не исключает определенной дозы фамильярности, характеризующей божества очень антропоморфно. Божества ведут такой образ жизни, который считается счастливым на земле: много времени проводят в празднованиях и пирах, так что и Эль напивается до опьянения. В мире божеств есть место также сексуальным отношениям. Одна странная поэма рассказывает, как Эль исцелился от импотенции, поразившей его, съев жареную птицу. Это позволило ему произвести на свет два звездных божества, а также целую серию богов-обжор, питающихся земными плодами. Как и месопотамские народы, семиты Угарита веровали, что агрокультура поддерживает существование богов так же, как людей. Об этом свидетельствуют многие ритуальные тексты, терминология которых, впрочем, по свидетельству ученых весьма трудна для понимания, а местами совершенно темна.
В Угарите имелись многочисленные храмы. Множество духовенства, обслуживавшего их, разделялось на коллегии. Мифы были рассказываемы во время торжественных официальных богослужений. Последние включали в себя также коллективные «жертвоприношения умилостивления», в которых принимали участие царь и царица. Целью этих жертвоприношений было обеспечение безопасности и благосостояния народа.
Издревле у финикийцев и хананеев существовал культ вавилонской богини Иштар, называемой в Библии Астартой (Ашера). Ее почитали как великую Мать-подательницу плодородия. Культ богини-матери у земледельцев связан тесным образом с почитанием земли – огромного материнского чрева, рождающего новый урожай. Ее муж – Ваал, изливающийся на землю в виде весеннего дождя. Как и культ Ваала, обряды, связанные с почитанием Иштар, сопровождались священной проституцией. Обычно эти церемонии проводились в священных рощах-ашерах[143]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См. его Prologus galeatus. Cp.: Еврейская Энциклопедия. Т. IX. Столб. 216.
2
Афанасий Великий, ев. Краткое обозрение Священного Писания Ветхого и Нового Завета. «Христианское Чтение», № 4 (1841). С. 240.
3
См., напр.: Wellhausen. Composition d.Hexateuchs. 1889; Campenter. The Hexateuch. 1900; Steurnage. Einleit in Hexateuch. 1900, и др. (В статье: Юнгеров П. Единство, систематичность исторический характер Книги Иисуса Навина. «Православный Собеседник», № 3 (1905). С. 406.) См. также, напр., вступительную статью M.I. Danieli к итальянскому переводу гомилий Оригена на Книгу Иисуса Навина. Автор статьи, между прочим, замечает: «Как в традиции, так и в современной критике нередко говорится о первых книгах Писания как о Шестикнижии. Пятикнижие было бы в каком-то смысле незавершенным без книги Иисуса, в которой исполняются обетования, данные отцам». Danieli M.I. Introduzione in: Origene. Omelie su Giosue. Roma, 1993. R 5.
4
Baba Batra, 14а.
5
Афанасий Великий, св. Ibid. С. 239.
6
Ibid. С. 240.
7
Феодорит Кирский, блж. Изъяснение трудных мест Божественного Писания. Творения. Т. 1. М., 1855. С. 281.
8
Юнгеров П. Частное историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги. Вып.1. Казань, 1907. С. 155.
9
Иероним, блж. Письмо к Павлину, 53. Цит по: Юнгеров П. Ibid. С. 155.
10
Иоанн Златоуст, ев. Обозрение книг Ветхого Завета. Творения. Т. 6, ч. 2. СПб., 1900. С. 635.
11
Vogue. Histoire de la Bible. Paris, 1871.
12
Keil. Das Buch Iosua. 1874.
13
«Когда все цари Аморрейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари Иорданские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они: тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых». Нав. 5:1.
14
TostatA. Opera. In Josue Quaest., XIII. Koln, 1613.
15
Maes. Josue Imperatoris Historia. Antverpen, 1574.
16
Meignan. De Moise a David. Paris, 1896. См. также: Еврейская Энциклопедия. T. VIII, столб.905.
17
Этот обзор мнений западных библеистов XVI – нач. XX вв. приводим по: Юнгеров П. Ibid. С. 148.
18
Михаил (Лузин), еп. Исторические книги Ветхого Завета. Тула, 1899.
19
Виссарион (Нечаев), еп. Толкования на паремии. Т. I. СПб., 1894.
20
Владимирский Порфирий, прот. Опыт краткого толкования на Книги Иисуса Навина, Судей, Руфи и на 12 начальных глав 1 кн. Царств. СПб., 1884.
21
Юнгеров П. Частное историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги. Казань, 1907. Юнгеров П. Единство, систематичность и исторический характер Книги Иисуса Навина. «Православный Собеседник», № 3 (1905). С. 401–412.
22
Владимирский Порфирий, прот. Ibid. С. 1–2.
23
Толковая Библия, или Комментарий ко всем книгам Священного Писания. СПб., 1904–1913. Т. 2. С. 2.
24
Словарь Библейского Богословия. Брюссель, 1975.
25
Буйе Л. О Библии Евангелии. Брюссель, 1988.
26
Князев Алексий, свящ. Исторические книги Ветхого Завета. Париж, 1952 [машинопись].
27
Напр.: Мень Александр, прот. Как читать Библию. Брюссель, 1981; М., 1998.
28
«Православный Собеседник», № 3 (1905). С. 401–412.
29
Из новых работ на эту тему см., напр., отмеченное выше довольно обширное предисловие к современному итальянскому переводу гомилий Оригена на Книгу Иисуса Навина: Danieli M.I. Introduzione in: Origene. Omelie su Giosue. Roma, 1993. R 5-39.
30
De bello Vandalico, II, 10
31
Hist. Armen., I, 19.
32
Hist. Eccles., IV, 18.
33
Там же, XVII, 12.
34
Expos, epist. ad Roman., 13. (По: Юнгеров, П. Ibid. С. 412).
35
Михаил (Лузин), еп. Ibid. С. 12–13.
36