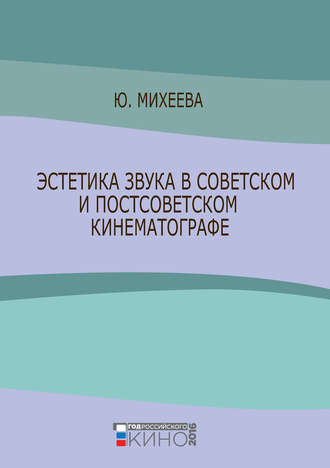
Полная версия
Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе

Юлия Михеева
Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе
Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова
Научно-исследовательский институт киноискусства ВГИК
Монография публикуется по решению ученого совета Научно-исследовательского института киноискусства ВГИК
Рецензенты:
доктор искусствоведения Н.А. Цыркун
доктор философских наук В.И. Самохвалова
Введение
Существует ли звук в современном звуковом кино? Вопрос парадоксален только на первый взгляд. Казалось бы, с развитием звукозаписывающих и звуковоспроизводящих технологий, с одной стороны – и под влиянием глобалистских транскультурных процессов, с другой, в мировом художественном пространстве создалась ситуация колоссальной свободы для выражения авторских идей в кинопроизведении. Безусловно, звук в кино есть как потенциально любая, самая фантастическая авторская идея, воплощенная технически почти совершенным образом.
Однако другая существенная сторона вопроса не дает нам предаваться эйфории в отношении звукозрительных возможностей кинематографа. Вспомним слова английского философа Джорджа Беркли: «Существовать – значит быть воспринимаемым». Кинопроизведение не существует без зрителя. В свою очередь можно сказать, что звук в кино осуществляется, когда он воспринимается зрителем, эстетически переживается им. Когда послание автора через звук находит живой отклик в зрителе. Но сегодня средний возраст наиболее активного кинозрителя неуклонно снижается, приближаясь к подростковому. Режиссер, работающий для этой аудитории, вынужден использовать звук в ограниченном диапазоне его эстетических возможностей – в основном как «направителя эмоций», своего рода «психагога» (это мы наблюдаем, прежде всего, в голливудской кинопродукции, изобилующей закадровой комментирующей музыкой, что, впрочем, вовсе не говорит о ее низком качественном уровне), а иногда и «фокусника», поражающего чудесами саунд-дизайна. Такой ограниченный звуковой функционал диктуется пределом культурного, образовательного и психологического «порога восприятия» массового зрителя. Не последнюю роль в звуковом (в первую очередь музыкальном) решении фильма играет и удачно сработавший однажды звуковой прием, становящийся в дальнейшем своего рода штампом в работе даже выдающихся кинокомпозиторов и, таким образом, также иногда (часто по воле продюсера) ограничивающим режиссера в его творческих исканиях.
Но даже если оставить в стороне возрастную проблему киноаудитории, нужно признать, что в последние десятилетия в мировом культурном пространстве произошла смена парадигмы, повлиявшая на массового, в том числе вполне взрослого зрителя самым явным образом. На смену культуре пришла пост-культура (термин философа-эстетика Виктора Бычкова). Логоцентричность культурного пространства еще недавнего прошлого уступает место различным формам визуальности. Изменилась и структура образования, ориентированная ранее на системность, культурную преемственность, сакральный статус классики, традиции, эстетической и этической нормы. Теперь в ходу мозаичная, «фрагментарная» образованность, эстетика визуальных, быстро сменяющих друг друга объектов («клиповость» сознания), отсутствие преклонения перед классическими образцами искусства, включаемыми в общий внеиерархический контекст современного искусства. Скорость художественной рецепции (в частности кинозрителя) существенно увеличилась; молодой зритель уже физически не настроен и не способен на длительный процесс эстетического восприятия, связанный с логическим выстраиванием семантических связей внутри сложного кинематографического диегезиса, с соотнесением авторского слова, слышимого им с экрана, со своим культурным опытом (которого по большей части и нет). В этом, кстати, состоит существенный «конфликт поколений»: старшее поколение остается в «прошлом» культурном поле, предполагающем и более медленную скорость культурного диалога, и меньшую силу звукового воздействия с экрана.
Что из всего этого следует в отношении творческого процесса создания кинопроизведения как синэстетического звукозрительного художественного феномена? В целом мировой кинопроцесс очень разнообразен, разнонаправлен, многоуровнев. Здесь сложно делать однозначные выводы и тем более прогнозы. Но некоторые тенденции проявляются сами в актуальном художественном процессе, отражающем, в свою очередь, состояние сознания современного человека. В этом отношении, думается, интересно отметить одну тенденцию, а именно: перетекание интереса создателей кинопроизведения от использования закадрового звука как четко выраженного авторского отношения к экранному действию – к созданию вполне эмоционально нейтральной, отстраненной в оценочном отношении звуковой среды, в которую время от времени погружается зритель. То есть звук начинает выполнять «рекреационную» функцию в условиях гипернасыщенного сюжетом и эмоциями экранного пространства. Причем феноменологически эта звуковая среда может быть выражена совершенно по-разному в художественно-стилистическом отношении. В этой тенденции периодического «растворения» смысла звука в звуковой среде можно усмотреть смену фазы в эволюции звукового кино, «движение по спирали» от звукового языка (речи) к звуковому праязыку.
«Усталость» аудитории от эмоционально-смысловой перенасыщенности кинематографа последней трети XX века привела в начале нового века к попытке возврата к праязыковой звуковой материи, которая отвечает самой специфике кинематографа как искусства, тому, что уже первые теоретики кино называли «фотогенией». Характерно, что в качестве фотогеничных объектов ими приводились в пример локомотив, океанский пароход, аэроплан, железная дорога, которые не отделимы от производимых ими внесемантических звуков, передающих через экран лишь свою «звучащую энергию». Борис Эйхенбаум в статье «Проблемы киностилистики» (в сборнике 1927 г. «Поэтика кино») писал: «Фотогения – это и есть “заумная” сущность кино, аналогичная в этом смысле музыкальной, словесной, живописной, моторной и прочей “зауми” Мы наблюдаем ее на экране вне всякой связи с сюжетом – в лицах, предметах, пейзаже. Мы заново видим вещи и ощущаем их как незнакомые». По Эйхенбауму, «постоянное несовпадение между “заумностью” и “языком” – такова внутренняя антиномия искусства, управляющая его эволюцией»[1].
Думается, погружение современного зрителя в асемантическую звуковую среду, позволяющую увидеть «вещи как они есть», не есть «повторение пройденного», но на новом этапе отвечает самой специфике экранного пространства, сути кинематографа. В этом смысле можно рассматривать и новейшие эксперименты по переозвучиванию (точнее, новому, иному озвучиванию) немых фильмов (движение «Немое кино – живая музыка»). Современные композиторы, сочиняющие композиции или импровизирующие в режиме «реального времени» для немых кинофильмов, не просто самовыражаются. Они пытаются войти в состояние творения нового мира, пребывания в среде, еще не отрефлексированной теоретиками, еще не ставшей структурой, «системой элементарных частиц» – и передать через звук это состояние зрителю.
Возможно, именно сейчас в кино возникает ситуация своего рода «затишья», в которой будут расслышаны и восприняты новые, плодотворные звуковые возможности, инициированные, в частности, представителями авторского кинематографа. В данной работе мы обратимся к звуку в попытке разобраться в многообразии подходов к его воплощению в кинофильмах очень разных режиссеров. Цель работы – в понимании эстетики определенного автора-режиссера с помощью анализа звуковых особенностей его кинопроизведений.
Нельзя сказать, что звук во всей многоаспектности этого явления не попадал в поле зрения теоретиков-исследователей авторского кинематографа. Различные аспекты существования звука (от музыкального аккомпанемента до визуальной тишины) в кинематографическом пространстве исследовались, начиная с эпохи немого кино. Киноведами [19, 32, 51, 52, 58, 103], музыковедами [13, 26, 28, 34, 35, 36, 39, 44, 46, 47, 56, 62, 63, 72, 90, 91, 121], философами [30], филологами [88, 89, 115], культурологами [118], режиссерами [55, 64, 66, 84, 112, 113, 114], звукорежиссерами [18, 40, 48], композиторами [27, 106, 107, 119, 120] написано немало интересных текстов на эту тему. Каждый автор, профессионально рассматривая близкую ему сторону звука в кинематографе, расширяет область нашего знания о нем: киноведы используют в анализе неизвестные или труднодоступные для непрофессионалов исторические факты и архивные материалы; музыковеды делятся сведениями из истории и теории музыки, улавливая и расшифровывая тонкости музыкального оформления фильма; звукорежиссеры демонстрируют примеры практической работы, объясняя творческие результаты с помощью знания физики и кинотехники; культурологи проводят интертекстуальные связи общекультурного характера; философы расширяют «горизонт видения» проблемы, обеспечивая методологическую базу для исследования; режиссеры и композиторы открывают подробности индивидуального творческого процесса, приведшие к уникальному звуковому решению фильма… Все эти «коллективные усилия разума» создают живое интеллектуальное поле – со всем разнообразием подходов, взглядов и концепций.
Но если посмотреть немного отстраненно на эти труды, то можно заметить, что в основном анализ звука в кинематографе сводится к двум глобальным вопросам: что делает звук в фильме? (т. е. каковы смыслы соединения звука с визуальным рядом, функционирования звука в кадре и за кадром) и как звук это делает? (т. е. формы и способы образования этих смыслов). Однако с развитием и усложнением художественного языка киноискусства, и в особенности с появлением авторского кинематографа, включенного в обширное поле интертекстуальных связей, перед исследователем звуковой составляющей кино с неизбежностью встает и еще один вопрос: почему так в фильме использован звук? Этот вопрос встает особенно остро в тех случаях, когда звуковое решение резко нарушает определенную установку сознания, обманывает ожидание зрителя, выходит за рамки сложившихся традиций и шаблонов. То есть проблема перерастает область кинематографического диегезиса, распространяясь в сферу авторского мира. С установлением понятия «авторское кино» не только на практике, но и в теории, исследователь становится перед проблемой понимания эстетики автора, его типа личности (и не всегда только творческой ее стороны), которая, в конце концов, и определяет генерализующий звуковой образ его художественных творений.
Представители авторского кинематографа в основном относились и относятся к звуку своих фильмов с величайшим вниманием. Но если звучащая составляющая фильма – зона профессиональной ответственности звукорежиссера (ограниченная техническими возможностями своего времени), то сторона звуковая – огромное пространство для выражения личного голоса автора. Характеристики использованной музыки и речи, преображенных, усиленных или искаженных шумов и звуков, расстановка интонационных акцентов или смысловых пауз могут помочь, прежде всего, в понимании эстетики, мировидения и мирочувствования автора, и лишь после этого стать частью теоретической интерпретации конкретного кинотекста.
Несомненно, в авторском кинематографе эстетика и мировидение каждого режиссера уникальны. Однако, думается, в художественном мышлении выдающихся мастеров можно выделить основополагающие принципы, эстетические основы, формирующие направления, которые не только помогают в интерпретации творчества конкретного художника, но и дают возможность проследить их влияние на кинопроизведения других режиссеров (порой весьма далеких от артхауса). В этом смысле исследование звука в творчестве некоторых режиссеров приобретает особенно важное значение, поскольку характер его использования как за кадром, так и в кадре является подлинным выражением авторской субъективности (в контексте своего времени). Субъективность автора, распространенная в сферу визуальности, имеет объективный предел в невозможности полностью творчески трансформировать снимаемое на камеру пространство и личность актера. Съемочный процесс подвержен разного рода ограничениям творческого и технического характера. Но, пожалуй, именно звук – особенно в современных условиях поразительных технических возможностей саунд-дизайна – та область кинотворчества, где автор может наиболее точно выразить свое субъективное отношение к «видимому миру». Подход режиссера к звуку может «рассказать» о его эстетических принципах (а через них и о нем как человеке) порой больше, чем визуальный ряд. Более того, визуальный ряд может полностью изменить свое значение в восприятии зрителя в сопровождении разного звукового контента. Цель данной работы – в обращении (возвращении) внимания кинозрителя к звуку в кинофильме, во всем многообразии и сложности способов, контекстуальных связей, иногда скрытых причин и непредсказуемых последствий его появления на экране. В конце концов, хотелось бы показать, что благодаря не только всматриванию, но и вслушиванию мы можем гораздо лучше почувствовать и понять авторов, дарящих нам радость эстетического переживания своих неповторимых кинотворений, удовольствие эмоционального и интеллектуального сотворчества, многократно превосходящее в своем продленном внутреннем «послевкусии» кратковременное физиологическое удовольствие от поглощения кинопродукта, о музыке которого так точно сказал Теодор Адорно: «…Потребительская музыка уже заранее торжествует по поводу еще не одержанных побед – титры кинофильмов, инструментованные резкими красками, ведут себя как ярмарочные зазывалы: “Внимание, внимание, то, что вы увидите, будет таким великолепным, сияющим, красочным, как я; благодарите, аплодируйте, покупайте”.. Она занимает место обещанной утопии»[2].
Глава I
Изоморфизм vs. контрапункт
Изоморфизм визуального и аудиального рядов в немом фильме. Становление авторства в звуковом решении фильма.
Проблема аутентичности звукового решения фильмов дозвукового периода.
Аудиовизуальный контрапункт: манифестация звуковой субъективности.
Эволюция аудиовизуального контрапункта
Изоморфизм визуального и аудиального рядов в немом фильме. Становление авторства в звуковом решении фильма
Что есть звук в кинематографе – не как технологическая возможность, а как эстетический феномен? Как только мы обращаемся к чувственно-выразительной форме кинозвука, мы подсознательно наделяем его смыслом. В самом общем представлении звук есть свидетельство жизни, одушевленности окружающего пространства. Такое понимание звука существовало уже в глубокой древности, о чем свидетельствуют различные мифологии. Например, в индуистской и ведической традиции считается, что звук Ом (Аум) был первым проявлением не явленного ещё Брахмана, давшим начало воспринимаемой Вселенной, произошедшей от вызванной им (звуком) вибрации[3].
Примерно в этом же смысле, как способе одушевления пространства, мы можем говорить о звуке на первоначальном этапе его освоения кинематографом. Существует распространенный афоризм, что немое кино никогда не молчало – оно лишь было неслышимым. Тем более можно говорить о том, что пространство кинозала никогда не было беззвучным. Общеизвестно, что уже первые публичные кинопоказы братьев Люмьер сопровождала фортепианная музыка. (К этому же времени относятся и первые попытки звукооформления в виде синхронной имитации, например, звуков поезда, выстрелов, взрывов и т. п. «за сценой».) И причиной появления гармонизирующего музыкального звука в кинозале был не только раздражающий шум проекционного киноаппарата – гораздо важнее было создать у зрителя ощущение пребывания в живом, жизненном пространстве, поскольку движение бесшумных теней на экране вызывало порой у посетителей синематографа неподдельный страх. Впечатление от своего посещения одного из первых кинопоказов очень эмоционально передал писатель Максим Горький: «Ваши нервы натягиваются, воображение переносит вас в какую-то неестественно однотонную жизнь, жизнь без красок и без звуков, но полную движения… Страшно видеть это серое движение теней, безмолвных и бесшумных»[4].
Ведущие кинотеоретики не раз высказывались о том, что в раннем кино музыка стала необходимой именно потому, что немой экран нуждался в психофизически ощущаемом пространстве, в объемной акустике, которую не мог передать плоский экран. Бела Балаш выразил эти ощущения в следующем: «Совершенно беззвучное пространство мы никогда не воспринимаем как конкретное и действительное. Оно всегда будет действовать как невесомое, невещное. Ибо то, что мы только видим, – лишь видение. Видимое пространство мы воспримем как реальность, лишь если оно обладает звучанием. И только тогда оно приобретает глубину»[5].
Созвучны этим мыслям и слова Зигфрида Кракауэра: «Жизнь неотделима от звука. Поэтому выключение звука превращает мир в преддверие ада». Тишина темного кинозала подобна смерти, а «в сопровождении музыки призрачные, изменчивые, как облака, тени определяются и осмысливаются»[6]. Но все же подлинное назначение музыки при демонстрации немых фильмов, по мысли немецкого исследователя, – вовлечь зрителя в самую суть немых изображений, заставить их почувствовать их фотографическую жизнь. И далее мы встречаем парадоксальный, на первый взгляд, тезис, получивший широкое распространение и применение уже в звуковую эпоху кино: «Музыка утверждает и легализует молчание, вместо того чтобы положить ему конец. И этой цели музыка достигает, если мы ее совсем не слышим, а она лишь приковывает все наши чувства к кадрам фильма»[7]. Другими словами, Кракауэр утверждает, что кинематографичность музыки достигается через психологическую неслышимость звука, через снятие музыкальной самозначимости, через звучащее молчание, отсылающее от (через) себя к изобразительности экрана.
Впоследствии такой взгляд на роль и значение музыки в кинематографе разделялся очень многими режиссерами, сосредоточенными на изобразительной стороне кинопроизведения. Согласно такой позиции, музыка должна лишь усиливать выразительность визуального ряда фильма. Можно принять, что в этом случае музыка в кинопроизведении наиболее кинематографична, то есть всецело подчинена его экранной специфике. Причем этот тезис совершенно не означает, что режиссером уделяется мало внимания музыке (или не уделяется вовсе). Для того чтобы музыка стала кинематографически неслышимой, режиссером и композитором подчас проводится огромная совместная интеллектуальная работа[8].
Таким образом, озвучивание кинематографического пространства, начиная с самых ранних шагов нового искусства, было своего рода естественной необходимостью. Более того, зачастую сама структура и ритмический рисунок кинопроизведения дозвукового периода провоцировали на его трактовку в терминах музыкальной науки. Так, режиссер Григорий Козинцев считал, что предпосылки музыкальной драматургии содержались в самих немых фильмах: «Как это ни покажется странным, но многие эпизоды наших немых фильмов были звуковыми. Звукового кино еще и в помине не было, а образы возникали не только «видимыми», но и «слышимыми». В надписях «Чертова колеса» цитировались бытовавшие тогда песни. <…> Дело было не только в таких внешних положениях, но и в самом строении фильма, в его ритме»[9].
Французский кинокритик и теоретик кино Эмиль Вюйермоз в 1927 г. в статье «Музыка изображений» призывал молодое искусство кинематографа «…изучать музыкальные законы изображения и искать тайные связи, объединяющие «органистов света» с Бахом, Моцартом, Шуманом, Вагнером или Дебюсси»[10]. Более того, Вюйермоз практически отождествляет законы создания музыкальной композиции и кинематографического произведения: «…созданием фильма руководят те же законы, что и созданием симфонии. Это не игра ума – это ощутимая реальность. Хорошо сделанный фильм инстинктивно подчиняется самым классическим наставлениям консерваторских трактатов по композиции. Синеграфист должен уметь писать на экране мелодии для глаза, оформленные в правильном движении, с соответствующей пунктуацией и в необходимом ритме»[11]. В кульминации своих рассуждений о родстве музыки и кинематографа Вюйермоз дает поэтическое определение: «Кино – это музыка изображений». Впрочем, вместе с получившим известность сравнением Жермен Дюлак кино с «чистой визуальной симфонией» эти поэтические метафоры французских теоретиков стали объектом достаточно едкой иронии русских опоязовцев в лице, в частности, Юрия Тынянова: «Называть кино по соседним искусствам столь же бесплодно, как эти искусства называть по кино: «живопись – неподвижное кино», «музыка – кино звуков», «литература – кино слова». Особенно это опасно по отношению к новому искусству. Здесь сказывается реакционный пассеизм: называть новое явление по старым»[12].
Однако призыв первых кинотеоретиков к «музыкальному мышлению» в кино до сих пор находит отклик, в том числе у современных исследователей дозвукового и раннего звукового кинематографа, прозревающих элементы музыкальной композиции в структуре и ритме визуального ряда. Так, в своей книге «Советский слухоглаз: кино и его органы чувств» киновед Оксана Булгакова подробно разбирает «Симфонию Донбасса» («Энтузиазм») Дзиги Вертова именно как симфоническую структуру в реальном, а не метафорическом воплощении[13]. Но это не является совершенно новым открытием российского киноведа: музыкальность фильма Вертова заметил еще великий Чаплин: вот примечательная записка, написанная им после премьеры «Симфонии Донбасса» в Лондоне: «Я никогда не мог себе представить, что эти индустриальные звуки можно организовать так, чтобы они казались прекрасными. Я считаю «Энтузиазм» одной из самых волнующих симфоний, которые я когда-либо слышал. Мистер Дзига Вертов – музыкант. Профессора должны у него учиться, а не спорить с ним. Поздравляю. Чарльз Чаплин»[14].
Теоретики нового искусства замечали признаки музыкальной формы и в игровых немых фильмах. Так, Николай Иезуитов усматривал в композиции картины Всеволода Пудовкина «Мать» (1926) сонатную форму (уточним: говоря о сонатной форме, Иезуитов имел в виду сонатно-симфонический цикл)[15]. В более поздних работах приводится уже масса примеров воплощения музыкальной формы в звуковых фильмах: польский музыковед Зофья Лисса в своем капитальном труде о киномузыке перечисляет (правда, подробно не анализируя) формы вариации, рондо, фуги, сонаты и др. в различных кинопроизведениях[16].
В начале 1980-х Андрей Тарковский в своих лекциях по кинорежиссуре призывал молодых режиссеров к изучению музыкальной формы: «Для создания полноценной кинодраматургии необходимо близко знать форму музыкальных произведений: фуги, сонаты, симфонии и т. д., ибо фильм как форма ближе всего к музыкальному построению материала. Здесь важна не логика течения событий, а форма течения этих событий, форма их существования в киноматериале»[17]. Интересно, что в том же 1981 году, когда начинающий тогда режиссер Константин Лопушанский готовил к изданию лекции своего учителя Андрея Тарковского, в Москве в Союзе кинематографистов СССР состоялась творческая конференция «Актуальные вопросы музыки в кино», на которой сразу несколько выступлений видных практиков и теоретиков кинематографа были посвящены проблеме музыкального решения фильмов именно в плане непонимания режиссерами задач и возможностей музыки, а также и звукозаписи в общем художественно-эстетическом образе кинофильма. Удивительно, что после нескольких десятилетий развития не только звукового кинематографа, но и вообще мирового искусства, приходилось слышать, например, такие слова известного звукорежиссера и кинокомпозитора Виктора Борисовича Бабушкина: «Режиссеры… работают в «башне из слоновой кости»… и делают до сих пор немое кино, по старинке мыслят категориями немого кино, и когда такое кино сталкивается со звуком, ни о каком синтетическом, едином решении не может быть и речи, потому что режиссер думает по старинке. Прогресс во всех областях мышления музыки кино и звукозаписи так велик, что мы рискуем сильно отстать. Мы уже отстаем и стараемся преодолеть это отставание. Необходимо режиссерам изучать киномузыку на примере кинопроизведения, а также изучать музыкальную классику»[18].
Надо признать, что призывы видных кинодеятелей к изучению музыкальной формы в рамках киношкол и по сию пору остаются лишь благими пожеланиями. А ведь изучение музыкальной классики, и прежде всего музыкальной формы – это не только познание гармоничного строения формальной структуры, близкой по духу форме кинематографической именно в силу своей временной природы, но и понимание возможностей воплощения в сложной художественной временной форме общей эстетической идеи, сотворения единого звукозрительного образа, о котором говорил еще Эйзенштейн – что является, безусловно, одной из самых сложных проблем в творческом процессе.


