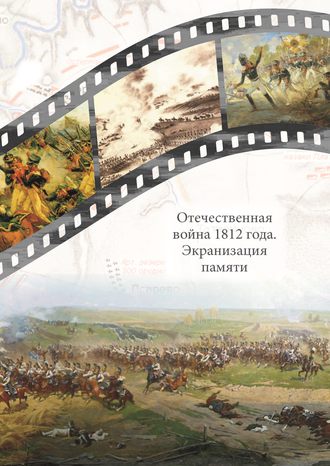
Полная версия
Отечественная война 1812 года. Экранизация памяти. Материалы международной научной конференции 24–26 мая 2012 г.
Подобную кинопамять можно было бы поименовать, прибегая к блистательному неологизму Марианны Хирш, кинематографической «постпамятью»[63]. Невольное историческое дистанцирование запоздалых «киновоспоминаний» от схватываемых ими первособытий делает такие «свидетельства истории» едва ли более надежными, чем игра фантазмов и конфабуляций, дежавю и жамевю. Предметом вопрошания такой кинематографической памяти может стать разве что сама игра ее вопрошаний – сами истоки ее неустойчивости и формы ее переменчивости.
Это тем более справедливо, если учесть, что клад, который мы тщимся отыскать в археологических пластах исторической памяти, именуется «Пожар Москвы», – то, что невольно ускользает от строгости «догм» и грозит скрыться под покровом неоднозначности «доке». Два столетия не умолкающий спор множит и оставляет недоотвеченными нескончаемые цепи вопросов, обрастая шлейфом цитат и противоречивых комментариев, порождая целый сонм сомнений. Кто поджег? С какой целью? Варварство это или жертвенный жест веры? Позор или слава? Преступление или подвиг? Безрассудство или расчет? Следствие буйства дионисийской стихии или результат аполлонической взвешенности? Отчаянный вызов диких скифов просвещенному монарху или рафинированная сдержанность спокойного решения, осуществить которое возможно было лишь путем жертвоприношения, в основе коего – самоотрешение и самоотречение?
2Если верно утверждение, что первособытием иудейской и, вслед за нею, христианской памяти служит своего рода травма бытийного разрыва – образ разрушенного Храма, то сложно было бы не поддаться искушению предположить, что в сердцевине российской памяти двух последних столетий лежит не менее трагический опыт переживания онтологического разрыва – образ сожженной святыни: обращенного в пепелище древнейшего, «сердцевинного» первопрестольного града. Есть в исторической памяти об огненной жертве этого «святого града» нечто неотвратимое, неустранимое. Сколь бы упорно ни пытались историю переписывать, как бы искусно ни стремились прошлое переиначивать, сквозь палимпсесты Хроноса проглядывает некая странная «памятливая провиденция» – не в грядущее вглядывающаяся, но отброшенная вспять неизбежность. И если на дне колодца воспоминаний глубиною в два столетия – не утешительный «белый камень», а ужас зияния бездны: отчаянного сожжения святыни, то каковы пути преодоления этой «травмы памяти»[64]? Здесь возможно как минимум три ответа, каждый из которых предъявляет свое суверенное право на трактовку кантовского принципа als ob – «как если бы».
Первый назовем «Летейскими водами» исторической анестезии (читай – амнезии): самый привычный способ самоисцеления, нередко объявляемый едва ли не единственным спасительным мнемоническим средством, данным нам, чтобы утолить жажду избавления от навязчивых теней прошлого. Это столь же небезопасное, сколь и кажущееся легким бегство из ада воспоминаний, вытеснение травмирующего события в забытие, тотальная негация опыта и решимость на его изгнание из эдема забывчивой памяти – по принципу «как если бы» этого события вовсе не было.
Второй путь противонаправлен течению Леты. Поименуем его «Мудростью Мнемозины»: изживание травмирующего опыта через его переосмысление и «приятие» его данности, освобождение от червоточин прошлого через усилие их непрестанного удержания в исторической памяти. Нет, не заживление язв, но, напротив, назойливое само-предъявление уязвленного воспоминания, его предельное само-обнажение, неустанное само-присутствие в сознании сегодня. Именно благодаря этому и достигается примирение с прошлым – по принципу «как если бы» это событие травмы было единственно возможным и единственно желанным из всего, что могло бы быть.
Третий путь, как обычно, «срединный». Пролегая между Летейскими водами забвения и Мудростью Мнемозины, он дарован тем, кто недостаточно слаб, чтобы забыть, и недостаточно силен, чтобы помнить. Назовем это «Ухмылкой Парамнезии»: метаморфоза памяти, преформирование воспоминаний через цепь псевдореминисценций, замещений, эрзацев и подделок прошлого (что в психологических теориях имеет множество специальных наименований, таких как «гипомнезия», «криптомнезия» и проч.). Ухмылка Парамнезии – это погружение в поток «иллюзий памяти», мыслеобразов кажимости, мнемонических подмен и «примышляемых» смыслов – по принципу «как если бы» это травмирующее память событие было не совсем таким, каким оно было, или таким, каким могло бы быть.
Три пути – три способа ускользнуть и от соблазна успокоительного забытья, и от грызущей «змеи воспоминаний» – образуют мнемонический тривиум. Думается, эти меморативные тропки побега от незаживающих ран прошлого очерчены в ментальном пространстве «нераздельно и неслиянно»: они нуждаются друг в друге и друг друга с неизбежностью порождают, предоставляя нам обманчивую свободу выбора.
3Какой из этих путей избрала кинематографическая «постпамять» о пожаре Москвы 1812 года? Разумеется, не первый, ибо сама попытка репрезентации в кинообразах этой великой исторической драмы – не что иное как способ избежать «невыносимой легкости» забытия. Однако кинематографическое «оживотворение» пожара Москвы в топосах коллективных воспоминаний культуры, сколь бы искусным и аффективным оно ни казалось, все же не в силах достичь вожделенных горизонтов столь же всепамятливой, сколь и всепрощающей мудрости матери Муз Мнемозины. Очевидно, уже избежав первого, но все еще не обретя второго, приходится искать особый – «третий» – путь.
И здесь в какой-то мере уместна аналогия со знаменитым беотийским оракулом в Лейбадее – пещерой Трофония, перед входом в которую протекали два ручья – источники Леты и Мнемозины. Согласно Павсанию, пригубив вод из первого ключа, посвящаемый забывал обо всех горестях; и только после этого отваживался погрузиться во мрак подземелья. Вернувшись же из пещерного таинственного сумрака на белый свет, посвященный должен был пригубить вод из второго ключа, чтобы запомнить тот необычный опыт знания-и-переживания, который приобрел в пещере. Может, именно шок встречи с «купелью забвения вечных воспоминаний»[65] и был причиной того, что человек, дважды минуя стражей мнемонических границ – источники Леты и Мнемозины, – иными словами, пройдя кружной путь ухода-забвения и возврата-припоминания, утрачивал способность смеяться?[66]
Кинематограф нередко сравнивают с пещерой: то ли трофониевой, сновидческой, одурманивающей сознание, то ли с Платоновой, на стенах-экранах которой узники-зрители созерцают игру теней. Так или иначе, между усыпляющим разум летейским потоком вселенской Амнезии и пробуждающим разум источником мудрости всеведающей богини Припоминания-Анамнезиса пролегает «третий», странный путь – загадочной и пугающей Ухмылки Парамнезии. Путь иллюзий и сомнений, симулякров и фантомов. Именно этой тропкой, похоже, и следует язык кинематографических образов, благодаря которым, которыми и вопреки которым то, что хранилось в памяти, забывается, а забытое вновь призвано быть воскрешенным в памяти.
Должно быть, самое время вспомнить восхитительную гипотезу о «кинематографичности» нашего мышления», которое, согласно (не любившему кино) знатоку и ценителю искусства памяти Анри Бергсону, фрагментарно и призвано монтировать отдельные снимки, нанизывая их «вдоль некоторого абстрактного, однообразного, невидимого стержня-процесса», составляющего основу «аппарата нашего постижения», и таким образом приводить в действие «известного рода внутренний кинематограф» [67]. Мнемонические орнаменты и мировой пещеры Платона, и трофонийского ущелья, и памяти культур подчинены неустанному движению образов-теней «внутреннего кинематографа», который и порождает символическо-воображаемо-реальный мир того самого «человека предположительно помнящего», что мечется в неразрешимом выборе тривиума, или, лучше сказать, круговорота: нескончаемого поединка извечных антагонистов Леты и Мнемозины и примиряющей их Парамнезии.
«…Кинематографичность улавливается в любых явлениях предшествующей культуры, так или иначе попавших в радиус действия кино. Кинематографическими могут объявляться любые детали (как аналоги крупных планов), рубленый стиль (как аналог монтажа) или, наоборот, подчеркнуто континуальное построение (как аналог ленты или кинематографической памяти). По мере расширения сфер проекции такого подхода, вся культура ретроспективно приобретает кинематографический характер»[68] – писал исследователь «Памяти Тиресия», интертекстуальности и кинематографа, и с этой мыслью сложно не согласиться. Именно такую ретроспективную метаморфозу образов прошлого культур, обретающих новую плоть в уклончивых синема-играх Парамнезии, и можно было бы назвать кинематографической «постпамятью». Наиболее лакомые из ее топосов – ареалы кинообразов травматического опыта, то и дело вытесняемого в «коллективное бессознательное», но всякий раз неумолимо воскресающего в переиначенных формах «коллективной памяти». Одним из подтверждений тому могут послужить кинематографические реминисценции о пожаре Москвы 1812 года.
4Наполеоновская тема издавна служила воистину завораживающей приманкой для немого кинематографа. Некогда именно она инициировала поиски экспериментального визуального языка и новых формальных приемов киноавангарда – достаточно упомянуть «1812 год», снятый к столетию события, в 1912 году, Василием Гончаровым, или знаменитый «Наполеон» 1927 года Абеля Ганса, изобретшего полиэкран и инверсию кинематографических образов видимого и видящего именно в ходе работы над этим фильмом. Однако для продолжения разметок траекторий нашего мнемонического тривиума, скорее, следовало бы обратиться не к подобным темам классических кинорефлексий, а к связке ключевых мотивов «травмы памяти», а именно: огня и жертвы, – представленных в различных экранизациях одного и того же литературного произведения. Речь идет, в первую очередь, конечно же, о романе «Война и мир» Льва Толстого и трех наиболее известных его экранизациях: 1956 года (Кинга Видора и Марио Сольдати), оскароносного фильма 1965–1967 года (Сергея Бондарчука) и 2007-го (Роберта Дорнхельма)[69].
Следует уточнить, что очерчивание проблем принципиальной языковой непереводимости: возможностей и невозможности интермедиальной трансляции, трансмутации понятий и образов, трансмиссии текстов скриптуальных в визуальные, – так же как и компаративистская аналитика различных версий «экранизации памяти»: американской (наивно-реалистической), российской (пафосно-метафизической) и европейской (квази-сенти-ментальной) – отнюдь не входят в круг наших задач. Заострим внимание лишь на сквозных, кочующих из фильма в фильм шокирующих эпизодах пожара Москвы, в которых язык кинематографа, похоже, подходит к границам невыразимого, а понятийная безъязыкость и дискурсивная беспомощность обрастают визуальными коннотациями необычайно выразительных «образов без-Образного и без-обрАзного», парадоксального в своей чудовищности акта «самосожжения града».
С долей лукавой осторожности и упрощающей условности можно утверждать, что во всем многообразии спектра кинематографических приемов создания визуальных образов пожара в «экранизациях памяти» доминируют три взгляда – то и дело сменяющие друг друга формы киноиллюзии, основанные на пульсации приближающего и удаляющего зрения, словно бы использующего увеличительную, прозрачную и уменьшительную линзы восприятия:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Aleida Assmann, Re-framing memory. Between Individual and collective forms of constructing the past In Performing the Past Memory, History, and Identity In Modern Europe Karin Tilmans, Frank van Vree and Jay Winter (eds.) Amsterdam University Press, 2010, P. 35.
2
См. например, Susan Sontag, Regarding the pain of others, New York, 2003; Савельева И.М., Полетаев A.B. История и время. В поисках утраченного. М., 1997; Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. Спб., 2004.
3
См. Ассманн Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
4
История и память: историческая культура Европы до начала нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006; Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2010; Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX вв. Самара, 2011 и др.
5
Весьма эффективным представляется подход Д. Винтера, который предложил разграничить память и воспоминание, понимая память как явление индивидуальное, ограниченное личным опытом восприятия прошлого, а воспоминание как социальный феномен, в котором индивидуальные представления о прошлом создаются, оформляются и транслируются (Performing the Past. Memory, History, and Identity In Modern Europe, Karin Tilmans, Frank van Vree and Jay Winter (eds.) Amsterdam University Press, 2010).
6
Karen Hagemann, Occupation, Mobilization, and Politics: The Anti-Napoleonic Wars In Prussian Experience, Memory, and Historiography // Central European history. Vol. 39. № 4 (Dec., 2006); Ute Planert, From Collaboration to Resistance: Politics, Experience, and Memory of the Revolutionary and Napoleonic Wars In Southern Germany // Central European History. Vol. 39.2006; Gregory Carleton, History done right: War and the Dynamics of Triumphalism In Contemporary Russian Culture // Slavic Review. Vol. 70. № 3 (Fall 2011); War Memories. The Revolutionary and Napoleonic Wars In Modern European Culture, Alan Forrest, Etienne Franois, and Karen Hagemann (eds.) Palgrave Macmillan, 2012.
7
Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. Опыт источниковедческого изучения. М.: Наука, 1980. С. 141–142.
8
Герцен А.И. Былое и думы. Ч. I // Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 т. М., 1956. Т. 8. С. 17.
9
Там же. С. 19.
10
Михайловский-Данилевский А,И, Описание Отечественной войны в 1812 году. Ч. 3. СПб., 1839. С. 64–65.
11
П…. Ф…. Некоторые замечания, учиненные со вступления в Москву французских войск (и до выбегу их из оной) // 1812 год в воспоминаниях современников. М.: Наука, 1995. С. 29–30; Паскевич И.Ф. Походные записки // 1812 год в воспоминаниях… С. 83; Душенкевич Д.В. Из моих воспоминаний от 1812 года до (1815 года) // 1812 год в воспоминаниях… С. 113; Глинка Ф.Н. Письма русского офицера // России двинулись сыны; записки об Отечественной войне 1812 года ее участников и очевидцев. М., 1988. С. 195 – 96. Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 86.
12
Герцен А. И. Былое и думы. Ч. I. Собрание сочинений в 30 т. М., 1956. Т. 8. С. 15.
13
Там же. С. 22.
14
Столпянский П. Оренбургский край в 1812 году. Оренбург, б/д. С. 16.
15
Парсамов В.С. Конструирование идеи народной войны в 1812 году // Новое литературное обозрение. 2012. № 6 (118). URL: http://www.nlobooks.ru/ node/2894 (дата обращения: 28.12.2012).
16
Наша Отечественная война 1812 года. Сост. А. Архангельской. М., 1891. С. 3.
17
Народная война 1812 года. Спб., 1883. С. 3.
18
Поселянин Е. Сто лет назад. Воспоминания о 1812 годе. М., 1912. С. 19.
19
Наша Отечественная война 1812 года. Сост. А. Архангельской. М., 1891. С. 3.
20
Поселянин Е. Сто лет назад. Воспоминания о 1812 годе. М., 1912. С. 24.
21
Цимбаев К.Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца 19 – начала 20 века // Вопросы истории, 2005. № 11. С. 99.
22
Чулос К. Славя местное: торжества в Российской империи и пореформенные авторы провинциальной прессы // Ab Imperio. 2001. № 1–2. С. 283.
23
Мстиславский С. Отечественная война // Запросы жизни. 1912. 24 августа. № 34. Ст. 1912.
24
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 86.
25
Омский телеграф. Омск, 1912. № 190. С. 3.
26
Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999. С. 48.
27
Цимбаев К.Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца 19 – начала 20 века // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 106.
28
«Петербургское телеграфное агенство» получило многочисленные телеграммы из различных городов о совершенных торжественных панихидах об императоре Александре и павших в боях Отечественной войны воинах» (Омский вестник. 1912. № 190. С. 2.)
29
Сибирская жизнь. 1912. № 190. С. 1.
30
«Сибирская жизнь» сообщала, что Воскресенское участковое попечительство о бедных решило отпустить 400 бесплатных обедов для беднейших жителей Томска, Заозерное попечительство устроило для бедных бесплатный обед из трех блюд в ресторане «Славянский базар», также бесплатные обеды организовали Болотное, Верхне-Еланское, Петровское и др. попечительства о бедных Томской губернии (Сибирская жизнь. 1912. № 189. С. 3).
31
Цит. по Мак г. Гюстав Курбе. М., Искусство, 1986. С. 70.
32
Цит. по Мак г. Гюстав Курбе. Указ. соч. С. 72.
33
Взаимосвязанные понятия «завершение» и «вненаходимость», играющие ключевую роль в ранней работе М.М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности», в более поздний период бахтинского творчества характеризуют уже не только отношения между автором литературного произведения и его героем, но и «пограничные» диалогические отношения между культурными мирами исследователя литературного произведения и исследуемого автора, разворачивающиеся в онтологическом «круге понимания». В данной статье, однако, как об этом далее будет сказано подробнее, понятие «завершение» чаще всего используется не столько в бахтинском диалогически-онтологическом контексте, сколько в, можно сказать, «объективирующем» исследуемых авторов социологическом контексте.
34
Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Т. 2. Благовещенск, БГК им. И.А. Бодуэна, 1999. С. 451–453.
35
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 37, с. 35
36
Я в данном случае говорю о той социологической логике, которая связана с позитивистской традицией, объединившей все исследовательские подходы к субъекту как к объекту с определенными социальными характеристиками, вписанными в тот или иной «реальный» или заданный смоделированными пресуппозициями статичный синхронический контекст. Во второй половине XX в. социология, оказавшаяся под воздействием теоретических работ А. Шютца, П. Бергера, Т. Лукмана, Д. Г. Мида и др., в значительной степени переориентировалась на иное, прежде всего, феноменологическое, понимание субъекта.
37
См.: Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. М., изд-во РГГУ, 2000. С. 776–782.
38
Баткин Л.М. Указ. соч. С. 782.
39
Там же. С. 784.
40
Там же. С. 782.
41
См.: Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. М.: КомКнига, 2010. С. 70–71.
42
Шартъе R Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? // Новое литературное обозрение. № 66. 2004. С. 26.
43
Шартъе R Указ. соч. С. 25.
44
Ханютин Ю.М. Кинематограф – нацизм – пропаганда // Киноведческие записки. № 2. С. 90.
45
Кракауэр 3. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М.: Искусство, 1977. С. 116.
46
См. главу «Горький и традиция правдостроительства» в книге Л. Мальковой «Современность как история». Малькова Л.Ю. Современность как история. Реализация мифа в документальном кино. М.: Материк, 2006. С. 69–117.
47
Бенъямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Киноведческие записки. № 2. С. 156.
48
Гринберг К. Авангард и китч. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://azbuka.gif.ru/authors/grinberg/
49
См. Рейфман Б.В. Явное и сокрытое (о некоторых типичных для советского кинореализма сталинской эпохи свойствах структуры фильма «Юность Максима») // Вопросы культурологии. 2009. № 8. С. 81–85.
50
Начало истории «личностного» типа индивидуализированности в русской культуре совпадает, вероятно, с началом европеизации российского дворянства.
51
Примерно в это же время гораздо более ранние философские обоснования множественности «истины исторического факта» оказали некоторое влияние и на методологию исторической науки.
52
«Интертекстуальность» в данном случае понимается, конечно же, не в постструктуралистском, а в гораздо более широком контексте: именно как осознаваемые или не осознаваемые авторами межтекстовые связи.
53
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л.: Просвещение, 1972. С. 37.
54
Там же. С. 42.
55
О моем понимании кинотеории А. Базена см. Рейфман Б.В. Реалистичность и эстетичность «другого» реализма Андре Базена // Киноведческие записки. № 97. С. 226–240.
56
См. Рейфман Б.В. Тарковский и «пограничность» (о философских аспектах «запечатленного времени») // Международный журнал исследований культуры. № 2(7). 2012. С. 25–41.
57
Киноавангардистские фильмы и теории можно объединить разными способами в зависимости от избранного «сущностного» признака. В данном случае, говоря о близости к советскому киноавангарду творчества Тарковского, я имею в виду их общее противостояние тотально-повествовательному «реалистическому» кино. Об анти-«реалистичности» теорий и фильмов С.М. Эйзенштейна см.: Рейфман Б.В. Путь к понятию в сопровождении образа: некоторые аспекты кинотеории С.М. Эйзенштейна // Культура и искусство. № 1. 2012. С. 45–55.
58
Вышедшая в 1966 г. книга В.П. Демина «Фильм без интриги» – одно из ярких свидетельств проникновения в советский кинематограф периода поздней «оттепели» чеховской традиции «свободной» драматургии.
59
Шемякин А. Превращение «русской идеи» // Искусство кино. 1989. № 5. С. 46.
60
См. Ямпольский М.Б. Дискурс и повествование // Киносценарии. 1989. № 6. С. 175–188.
61
Ср.: Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы ее, – к всесожжениям не будешь благоволить. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50:17).
62
См.: Лишаев С. Помнить фотографией. СПб.: Алетейя, 2012. 140 с. (Тела мысли).
63
Подробнее о концепции «постпамяти» см.: Hirsch М. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory / Marianne Hirsch. Oakland, CA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012. 320 p.; Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust / Marianne Hirsch. Columbia University Press, 2012. 288 p. (Gender and Culture Series).









