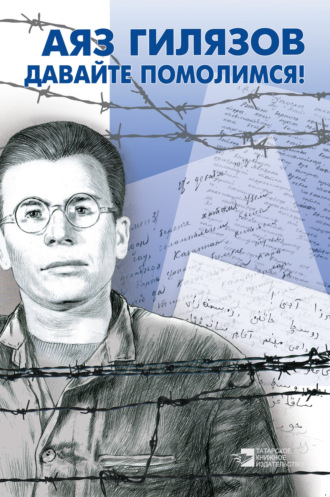
Полная версия
Давайте помолимся! (сборник)
Тюрьма – это гнездо «живых» вестей, сюда они слетаются, отсюда же и вылетают в мир. Заключённых непрерывно перегоняют из одной камеры в другую. После обысков, которые устраиваются раз в пять-шесть дней, мала вероятность оказаться в камере, где ты сидел ранее. Надзиратели так наловчились, что от их зоркого глаза не ускользнёт ни одна чёрточка, будь она даже размером с комариное бёдрышко, нацарапанная на стене, ни одно крошечное, размером не больше чечевичного зёрнышка, пятно на полу. Они буквально облизывают камеру сверху донизу. В прочитанных мной книгах сказано, что тюремные стены – это настоящий архив, в котором хранятся стихи, завещания, наставления и прочее. На Чёрном озере подобное абсолютно невозможно. Личный обыск проходит с невиданным унижением, тщательно ворошат волосы, приказывают то сесть на корточки, то встать на колени. Оголив твой зад, раздвигают ягодицы и что-то ищут в этих тёмных глубинах. Муса Джалиль13 испытал все тяготы немецкого плена, был узником суровых тюрем Моабит и Шпандау. Если бы Муса сидел на Чёрном озере, мы его последних стихов ни за что бы не нашли. Немецкие тюремщики по сравнению с нашими кажутся детьми, учениками, не правда ли? Надзиратели точно знают, что в камерах нет никакого криминала, они его и не находят. Главная цель шмонов – унизить заключённых, сломить дух. Если услышите, что кто-то хвастается, мол, перестукивался через стену камеры Чёрного озера морзянкой, не верьте! Это ложь! Чёрное озеро – огромная трёхэтажная тюрьма. Она словно плывущий в кромешной тьме чёрный корабль, там любой шорох за версту слышен, попробуй-ка постучи! И не заметишь, как окажешься в сыром, холодном карцере, кишащем мокрицами!..
Ради чего, из каких коварных соображений беспрестанно переселяют арестантов из одной камеры в другую? С высоты прожитых лет я так представляю себе этот процесс: в конце недели собираются три-четыре следователя и раскидывают в несколько кучек бумажки с именами арестантов подобно тому, как раздают колоду карт. Затем совещаются: кого с кем им наиболее выгодно посадить? Тюремщики давно освоили феномен «психологическая совместимость». Раньше я слышал о том, что следователи частенько спускаются в тюремный коридор и, прильнув к волчку, наблюдают за поведением, вслушиваются в разговоры предоставленных самим себе арестантов, изучают их повадки и делают заключёния о том или ином человеке – так оно и было, оказывается. Арестант – это, в общем-то, запертый в клетку зверь. Заключение каждый переживает по-своему. Некоторые замыкаются, а кто-то даже в отсутствие темы всё равно болтает, лишь бы убить время. Кто-то пытается вспомнить забытые, на воле казавшиеся ненужными молитвы, чтобы у давно умерших родителей, у друзей и родственников вымолить прощение. В заключении у всех смягчается характер, многие начинают осуждать себя за свершённые злодеяния… Правда, совсем обмякших тоже не любят, стараются держать таких на удалении. В камере вынуждены тесно сосуществовать люди с различными характерами и привычками. Следователи стараются посадить вместе людей, абсолютно не подходящих друг другу. Чтобы арестанту не только на допросах было беспокойно, но и в камере! Тогда арестант быстрее сломается, начнёт подчиняться. Совместимость космонавтов изучают сотни учёных в специальных институтах. Если несовместимы – беда! Пытка!
В арсенале тюремщиков Чёрного озера огромное количество способов усмирения строптивых арестантов! Попробуй потягайся с ними!.. Запретят передачи-гостинцы. Подселят в камеру «отборный» человеческий сброд: мелочных, наглых, буйных, обжор, дураков и придурков всех мастей, людей без стыда и совести. Один воняет так, что нутро выворачивает от этого смрада. Другой храпит на всю тюрьму, задыхается, вскакивает посреди ночи и, выпучив ошалелые глаза, начинает теребить тебя, кусать. У третьего хронический сквозняк в пятой точке… «надует» так, что хоть вешайся, вонь на зубы липнет. Четвёртый папиросину «поедает» быстрее, чем макаронину.
Кстати, о куреве… В 36-й камере мы, как правило, сидим впятером-вшестером. Большей частью – легионеры, деревенские кренделя. Никому из них передачи не носят. Курево – дефицит! В один из дней от запасов табака остаются жалкие крохи. Колумбов нет14, из Америки табак не привезёшь! А табак… верный спутник солдат и арестантов! Не то что сигарета, окурок ходит в чине генерала. Русские уважительно величают его: «чинарик». Окурок пускают по кругу. Чтобы не жгло пальцы, мастерят мундштук, один на всех. Крошат пустой спичечный коробок, щепки смешивают с бумагой, используя вместо клея намятый хлебный мякиш, лепят некое подобие мундштука. Кому первому затягиваться, кидают жребий. Счастливчик делает глубокий затяг и выдыхает дым в рот вставшему в очередь соседу. Путешествуя из одного рта в другой, дым ослабевает, и до последнего в очереди доходит один запах. Так вот маленький окурок приносит в камеру большое счастье. Очередь не нарушается. Если попытаешься влезть без очереди – считай, что ты труп, за курево и глотку запросто могут перегрызть. Не дай бог, конечно. Наконец, выкурены последние крошки, в камере воцаряется тишина и уходить она, похоже, не собирается. Оставшиеся без курева семь мужиков – попавшие в западню семь львов, семь трёхглавых драконов! От табака не осталось и крошки, все карманы перерыты, углы тумбочек многократно подметены! Красную площадь в Москве столь тщательно не метут, наверное! «Ни у кого не осталось?!» В один голос: «Ни у кого!» Наступает очередь самодельного мундштука. Пропитанную никотином бурую трубку ломают, измельчают и делают из этого «табака» самокрутку. От одной затяжки жутко горькой и вонючей «сигарой» из глаз брызжут слёзы, вся камера начинает кашлять и чихать. Едкий дым выползает в коридор, надзиратель тоже давится кашлем и колотит в дверь камеры пяткой большого железного ключа: «Вот я вас!.. Без воды и туалета оставлю!» – грозится вертухай.
Камеры Чёрного озера никогда не пустуют, но встретить здесь кого-то, кроме сокамерников, – и не мечтай, небывалое дело! Если по коридору должен пройти встречный конвой, тебя немедленно втолкнут в тесный деревянный ящик, размером с древнеегипетский саркофаг для мумии. Такие «гробики» предусмотрительно расставлены в каждом углу тюремного лабиринта. Шарканье арестантских ног можно услышать только во время десяти – пятнадцатиминутных прогулок. Эти прогулки по дну высокого каменного мешка большая радость для заключённых. Без них человек, лишённый солнечного света, голубого неба, белых облаков, быстро жухнет и умирает. Сидят в тюрьме и женщины. Когда они выходят на прогулку, оглашая тюремный двор стуком каблучков, мужские камеры замирают, все мужчины стараются как можно ближе придвинуться к стене, выходящей во двор…
4Не надо стремиться на встречу с прошлым,
потому что неизбежны разочарования.
Василь Быков15Вести, слухи, было-не было…
Я сейчас многое знаю! В одной из камер сидит студент университета Адлер Тимергалин16. Мой земляк. На воле мы очень редко встречались. В одной из квартир на улице Подлужной жили несколько студентов. Случайно забредя в этот район, я зашёл и в их квартиру: тесная жаркая комната полна парней, некоторые разделись до маек – горячие споры, крики, накурено так, что казалось, дым под давлением вырывается сквозь щели. Дали слово и мне. Адлер, помнится, упрекнул меня в замкнутости и пассивности. Не могу до конца согласиться с этим, но запомнился Адлер как ершистый, целеустремлённый, точно знающий, какой дорогой ему идти, человек. Он казался мне несгибаемым, обладающим сильным, намного сильнее моего, духом. Недоставало мне духовной зрелости, это правда, ветреным я был. Сейчас-то понимаю, что незаслуженно превознося каких-нибудь проходимцев, увязывался за ними и совершал немало ошибок, но… Прошлого, как известно, не воротишь. Да разве избавлен я, сегодняшний, от ошибочных оценок и суждений?! У татар есть меткая и ёмкая фраза: «Алтыдагы алтмышта». Перефразируя пушкинскую строку, смысл этого татарского выражения можно перевести так: «Заблуждениям все возрасты покорны – и шесть лет, и шестьдесят».
В тюрьме все, кажется, знали о том, что по соседству сидит Адлер Тимергалин. Если скажу, что в то лето в каждой камере сидело по студенту, буду прав. Но самым знаменитым и восхваляемым, о ком слагали легенды и передавали из уст в уста, был Адлер. Он, оказывается, на допросах говорил о порочности советской власти, о жестокости Сталина! Ничего не стесняясь, никого не боясь, глядя следователю в глаза! А те его даже побаивались якобы. Решив, что Адлер тронулся рассудком, его повезли на экспертизу в психбольницу, что на Арском поле. Ведь таких арестантов Чёрное озеро ещё не видывало! Не забывайте: это пятидесятые годы! Не знаю, говорил Адлер эти слова или нет, но уверен, что парня на Арское поле, в самую строгую из тюремных больниц России, возили. Легенды на пустом месте не родятся. И покалеченным, измождённым узникам Чёрного озера тоже нужен был герой-богатырь из своих. Рассказывая о его подвигах, они и сами растут… Ага, – радуются они, – вы, чекисты, нас-то одолели, а попробуйте-ка теперь Адлеру Тимергалину горло перекусить! Что, вязнут зубки-то?!
Услышав однажды: «Мазит Рафиков17 тоже в тюрьме», я не поверил. Этот человек буквально поклонялся советской власти, написал сотню стихов, восхваляющих Ленина-Сталина и их деяния. Как он мог оказаться в тюрьме? Летом сорок девятого, отдохнув на каникулах в родном Кугарчинском районе, Мазит Рафиков, брызгая слюной, рассказывал о благополучии колхозов, о сытой и счастливой жизни крестьян под чуткой опекой Сталина. Я, рассказывая по возвращении с каникул о противоположном, вступил в спор с Мазитом. «Нам пора переходить на американскую фермерскую систему! Без этого нам крестьян не прокормить», – пытался я переубедить оппонента. Кто же думал, что мои слова вскоре лягут на стол КГБ?
Вторым знаменитым арестантом был студент юридического факультета университета по фамилии Фролов. Но не столько поступками он прославился на Чёрном озере, сколько бородой. Едва перешагнув тюремный порог, ты попадаешь «в плен» к парикмахеру, он буквально порабощает тебя! Не допустит ни единого волоса на твоей голове, придёт и сбреет едва обозначившуюся растительность. Огромным, лысым, мутноглазым был наш парикмахер. А Фролов не дался этому громиле, не позволил сбрить бороду. Когда тот намеревался применить силу, Фролов, зажав бороду в кулак, закатывал истерику, начинал кататься по полу! В конце концов объявил голодовку! Выведенные из себя охранники связали парня и начали запихивать еду во все дыры – и снизу, и в уши, и в ноздри. Мне тоже довелось повстречаться с этим человеком, месяц державшим всю тюрьму в напряжении. Получивших срок арестантов некоторое время томят в больших пересыльных камерах. Встретив в такой камере Фролова, я был крайне изумлён: нескладный, сутулый, маленького роста, смирный туберкулёзник предстал передо мной. А его легендарная борода, лучше б мне этого не видеть, три волосинки в шесть рядов! Вот так Илья Муромец!
Там же, в пересыльной камере, состоялось моё краткое знакомство с ещё одним интересным человеком. Переводчик Молотова18, русский по национальности, изъездивший полмира, мог бы дать ответы на многие мои вопросы. Жаль, быстро расстались! Хотя за год, проведённый в застенках Чёрного озера, я лучше стал разбираться в различных проблемах, но неразрешённые вопросы всё равно оставались:
– Почему именно в сорок восьмом году стали массово сажать военнопленных и легионеров?
– Почему именно в сорок восьмом стали заново сажать тех, кто однажды уже отбыл срок на каторгах и в тюрьмах?
– Почему именно в это время стали сажать репатриантов?
– Почему самых талантливых, грамотных, выделяющихся из общей массы передовыми взглядами студентов высших учебных заведений бросали в камеры, отрывая от учёбы и изолируя от общества? Арестовали даже Гурия Тавлина19 и Мазита Рафикова. Какие же они «враги народа»?
Кстати, о студентах. В тридцать шестой камере я встретил студента биофака Михаила Хошабу. Низкорослый, плотный ассириец с густой порослью чёрных кудряшек на груди удивил меня тем, что умел ловко перескакивать с одного языка на другой. «I can see the sun when it is raining», – начинает он петь по-английски и вдруг неожиданно продолжает на татарском:
Суның кадерен чүлдән килгәнЮлчылардан сорап бел.Дусларыңның кем икәненАвырлыкта сынап бел!Незатейливая вроде бы песенка: «О цене воды спроси у путников, прошедших через пустыню. Цену друзьям своим узнаешь, лишь пройдя сквозь беду», а у меня глаза увлажняются…
Михаил тоже благополучно вышел на свободу. В конце пятидесятых годов, я тогда работал в редакции журнала «Чаян»20, этот стремительный, как молния, и круглый, как колобок, человек «перекатился» через порог нашей редакции! Ладный парень с ассирийским лицом обратился ко мне: «Не одолжишь ли немного денег на дорогу?» Куда уж он ехал, я забыл. Но вот, что деньги занимал, помню! Сам-то я жил в те времена небогато, можно даже сказать, бедствовал. Снимал крошечный угол в Новой Слободе, где ютился с молодой женой и недавно родившимся первенцем Искандером. Сообразительный, живой был Михаил Хошаба, ассирийский парень!
* * *Из 36-й камеры, живущей сдержанно и терпеливо, как, собственно, и предписывают тюремные порядки, меня перевели на первый этаж. Оказавшись в узкой, тесной камере, я сразу же загрустил. Пустая камера всегда ввергает арестанта в страх и уныние, леденит душу. Почему меня переселили? Какую подлость они опять задумали? Со следователем в последнее время каких-либо заметных разногласий не возникало, хотя одно всё-таки было: желая очернить Шарафа Мударриса21, он пытался разными нечистоплотными методами выбить из меня показания, но ничего не добился. Зачем они привязались к Шарафу, не понимаю.
Почему я здесь? Мысли мои – скакуны, сбросив седока, мчатся в непроглядную даль. Я загрустил, вспомнил родителей. Что, интересно, говорят обо мне однокурсники? Чувствую, их по очереди вызывают в эти дни на Чёрное озеро на допрос. Какие показания они дают?
Три-четыре дня промаявшись в ожидании каких-либо новостей-изменений, я собрался было лечь спать, как перед самым отбоем в камеру вводят, кого бы вы думали? Нигмата Халитова! Расстались мы с ним по-хорошему, и в этот раз встретились, как старые друзья, обнялись. «Не отпустили?» – с лёгкой усмешкой спросил Нигмат-ага. «А тебя?» – задал я встречный вопрос. «Нас великое множество… Люди день ото дня прибывают. Вскрываются новые факты, дело пускают на доследование». Увлёкшись беседой, мы не заметили, как начали разговаривать в полный голос. Загремела жесть волчка. Сегодня надзиратель – «китаянка». Действительно похожая на китаянку, желтолицая, раскосая татарка – злючка из злючек. Если случайно навалишься спиной на стену или если заметит, что сидишь облокотившись, «китаянка» тут же вскипает: «Не прислоняйся!», «Не облокотись!» «Я тебе…» Русский-то весь избит-переломан у бедолаги. Давно, видимо, забыла она, как разговаривать по-человечески…
У заключённых к дежурным офицерам, совершающим утренний обход, к ежедневно меняющимся надзирателям своё, строго определённое отношение. Оно никогда не меняется, передаётся из поколения в поколение. Годы и узники не ошибаются: надзиратели никогда не снимут однажды надетые оболочку и маску. Среди надзирателей есть ещё один татарин. Долговязый простой деревенский парень. Как уж он оказался в этой собачьей своре, непонятно. Тихий, обходительный, никогда не повысит голос, не станет торопить. В закоулках коридора может и коротко расспросить, поинтересоваться, как дела. Увидев, что ты мучаешься без курева, даст пару-тройку папирос. И стар и млад обращаются к нему уважительно: «Абый»[3].
Кличка невысокого русского надзирателя, лающего, словно сторожевой пёс, Кусачки. Нам для подстригания ногтей выдают железные кусачки. Коротышка – точь-в-точь этот инструмент! Одна сторона острая, другая – тупая. Среди дежурных больше всего мне запомнился офицер по фамилии Пронин. Именно он принял меня ночью. Мурлыча от удовольствия, раздел догола, обрезал все пуговицы на одежде, из ботинок вытащил шнурки… Ведя по коридору, он до боли стискивал запястья арестантов, не шелохнуться! Никаких наручников не надо! Можно подумать, что этот человек прямо тут, в тюрьме, родился, всю жизнь в каземате проживёт, тут и помрёт однажды. Он тут главный, хозяин. С утра заходит в камеру, суровым взглядом обшарит каждый закуток, каждую щель, каждое пятнышко, ничего не упустит. Поначалу он был в звании старшины, уже при мне ему присвоили младшего лейтенанта. Пронин и до этого псом был, а получив «высокий» чин, совсем с цепи сорвался, бешеным псом стал. Ненасытная крыса в золотых погонах этот Пронин: если крови арестантской не попьёт, души заключённым вдоволь не потерзает – до конца дня будет смотреть на всех голодными крысячьими глазками. И словно мерзкий крысиный хвост неотвязно волочилась за ним молва: «Он здесь с тридцать седьмого года служит, много душ прошло через его руки»… Всех подробностей не знаю, говорю то, что услышал от других. Пронин и сейчас жив – седой, скособоченный, тихий старичок…
Но самое удивительное в другом: в дни моего пятидесятилетнего юбилея телеграммы шли целую неделю, а доставлял их не леший с болота и не шайтан из подземелья – Пронин, да-да, тот самый бешеный пёс Пронин! Узнал он меня или нет, я не уточнял, не хотелось ставить человека в неудобное положение. Позже через работников почты узнаю: фамилия этого почтальона Седов, согласно анкетных данных, «всю жизнь проработал преподавателем физкультуры в школе». Правда о Чёрном озере настолько глубоко запрятана, все ходы наперёд просчитаны, даже такие мелкие сошки, как надзиратели, прятали настоящие фамилии, живя под прикрытием служебных прозвищ.
Ой, я же совсем не про это хотел рассказать, видать, от долгого сидения в пустой камере мозги набекрень съехали, не в ту степь завели! Когда появился Нигмат-ага, я успокоился и спал крепче. Резко проснулся от злого громогласного «Подъём!» Вскочил как ужаленный, сходил в туалет. Вместе мы вылили парашу и стали ждать чай. Устрашающе грохнул засов, мы синхронно заложили руки за спины и насторожились. Вошёл Пронин, пристально оглядев камеру, высунул голову в коридор и призывно кому-то махнул. Ввели приземистого, невзрачного мужичка. Спичками торчащие во все стороны рыжие усы и борода ещё сильнее подчёркивали его неприглядность. У того, кто приходит с воли, в руках обязательно какой-нибудь дорожный узелок, у тех, кого переселяют из других камер, под мышкой зажаты матрас, одеяло и подушка, а у этого руки были абсолютно пусты. Пронин процедил сквозь зубы, надменно шевельнув бескровными губами: «Эй вы! Принимайте царский подарок!» Выйдя из камеры, он ещё долго подглядывал за нами в немигающий хищный зрак волчка. На вошедшем была суконная шинель, достающая до пола, на голове – шапка размером с воронье гнездо. Он несколько раз робко обвёл взглядом камеру и неспешно снял шапку и шинель. Худой, кожа да кости, брюки заправлены в изрядно изношенные носки, на удивление изящные щиколотки ног и взлохмаченная голова, вот что предстало нашему взору. «Холодно!» – сказал он, пытаясь согреть слабым, болезненным дыханием пальцы, напоминающие синюшные голубиные коготки. Его первые слова нас немало удивили: ведь в камере было не скажу, что жарко, но достаточно тепло. Новичок решил разъяснить ситуацию и кивнул на ноги: «Меня снизу привели, из подвала». У него на ногах были импортные ботинки из грубой кожи на толстой подошве, подбитые железным каблуком. Пока мы принюхивались да присматривались друг к другу, принесли чай. Новичок не стал класть сахар в чай, запрокинув голову, высыпал песок из пригоршни в рот и в два глотка осушил кружку. Мы на него смотрим, он на нас.
Этот невзрачный человек – легионер, и не рядовой, а ответственный работник газеты «Идель-Урал»22. Ещё до войны Кави Ишмури, а это был именно он, ошивался возле литературных кругов Казани, а в войну выпустил в Берлине две книги стихов под псевдонимом «Кави Таң». По окончании войны он ускользнул от советских войск в Чехословакию и жил там до сих пор под именем Антони Полачек. В декабре сорок девятого Ишмури разыскали и под конвоем привезли на Чёрное озеро. Пока его ни с кем не сводили, держали в подвале, в карцере. Следователь Узмашов, радуясь поимке столь крупной «щуки», каждый день потрошит добычу. Ишмури скрывать нечего, увесистая подшивка «Идель-Урал» лежит на столе у следователя. «Да тебя за каждый рассказ можно вешать, мерзкая душонка!» – стращает Узмашов. «Раз так, чего же он меня мучает!» – пустил слезу Ишмури. Бедолага-поэт, измученный одиночеством, подвальной стынью, крысами и зловеще оскалившимся на него будущим, узнав, что я студент университета и даже чего-то там пописываю, сильно обрадовался. Завалил вопросами. «Мастер точности» Нигмат Халитов, держа чуткие ушки по ветру, время от времени подключался к разговору, избегая задавать откровенно провокационные вопросы. Я отвечал, стараясь не навредить Кави Ишмури. Его многое интересовало: в каком состоянии газеты-журналы, театры, литературные кружки, как живут студенты, какие цены на базаре, в магазинах, и прочее, и прочее!
Я к тому времени повидал немало легионеров, узнал многие их секреты. И хотя я имел приличное количество информации о лагерях Радома, Вустрау, Едлина23, о сражениях на Атлантическом валу и на севере Италии, но на Кави Ишмури смотрел с удивлением. Впервые встретил я человека, который открыто выступал против советской власти, писал антибольшевистские стихи. Возвышать его или нет? Мне казалось, и я не раз этим хвастался, что много знаю, но правильно определить татарским легионерам и Кави Ишмури верное место в истории мне, конечно, не хватало знаний и опыта.
Ишмури долго не мог согреться. То ли холодный карцер тому виной, то ли его нутро холодил непреодолимый страх перед советским судом. Он очень жаловался на недостаточную температуру тюремного чая. Помню, как он мечтательно говорил: «Эх, сейчас бы опустошить кипящий-шипящий самовар чая!»
Этот оборванец-поэт общался с президентом «государства» «Идель-Урал» Шафи Алмасом, принимавшим активное участие в исторических событиях в самом центре Европы, был в тесных связях с Мусой Джалилем.
Я ещё не знал всей правды об основной цели татарского легиона, об их деяниях, воспринимал Кави как чудом вернувшегося с того света. Про Мусу Джалиля Кави ничего особенного не рассказал, говорил о нём с подчёркнутым равнодушием…
Ишмури снова и снова расспрашивал о своих ровесниках, с кем вместе учился, с кем начинал писать стихи: о Шайхи Маннуре24, Хатипе Госмане25. А что я, пупырышек на ровном месте, мог рассказать о таких известных в народе глыбах? Кави больше интересовали бытовые подробности: в каких квартирах живут, что едят, с кем общаются? В «Идель-Урал» напечатали известное стихотворение Шайхи-абый «Тартай арбасы» («Тачка») и посвятили автору целый разворот газеты. «Шайхи смелый поэт!» – сказал Ишмури, решительно поджав разбитые в лепёшку губы.
Меня очень коробило от того, что татарские легионеры – много повидавшие, немало испытавшие на своём веку, волею судеб оказавшиеся в разных странах, на поверку оказывались примитивными, ограниченными, недалёкими людьми, которые абсолютно не интересовались ни историей своего народа, ни литературой. Я не хочу сказать, что уже в пятидесятых годах был образованным, умным и интеллигентным человеком, но после знакомства с Кави Ишмури, одним из руководителей татарского легиона… в меня вселился один вопрос: и этот придурковатый голодранец собирался вершить судьбу великого татарского народа? Вселился вопрос и выселяться не собирался. Пообщавшись с легионерами других национальностей, русским Кулешовым, переводчиком Молотова, начальником жандармерии Пятигорска Аюкиным… неординарными, загадочными людьми… я невольно невзлюбил Кави. Слава богу, нас недолго продержали в одной камере, и следователь ни разу не задавал мне вопросов об Ишмури.
Благополучно вернувшись в Казань, я всё как есть рассказал Шайхи-абый. Не стал скрывать и своего неприязненного отношения к этой мрачной личности.
«Меня расстреляют! – душераздирающе вопил Ишмури, ещё не остыв от допроса у тюремного стервятника Узмашова. – Как пить дать, расстреляют!»
Трибунал проявил снисхождение к этому больному, слабому, сломленному духом, жалкому поэтишке. Кави Ишмури не расстреляли, приговорив к двадцати пяти годам. Согнувшись в три погибели от благодарности, Ишмури пожелал всем судьям долгих лет жизни, крепкого здоровья и райского благополучия. В пятьдесят шестом году, когда заключённых толпами стали выпускать на свободу, вышел и Ишмури, вернулся в Казань. Встретился он и с Шайхи-абый. «Ничего он не добавил к моим сведениям о Мусе, слишком низок горизонт у парня», – усмехнулся Шайхи-абый.
В нашей истории не так много событий, про которые можно сказать «татарское движение, татарский подъём, татарское национальное дело». В самый разгар Второй мировой войны известная многим национальная организация «Идель-Урал» приобретает новое содержание, новые оттенки. До сих пор не было такого человека, который сказал бы веское слово и дал справедливую оценку официальному руководству «Идель-Урала», сосредоточенной вокруг Мусы Джалиля интеллигенции. Но в последние годы, особенно после того, как в Казань попали воспоминания Анвара Галима26, народилась буря жарких, противоречивых, «братоубийственных» споров, лишённых при этом каких-либо веских аргументов-доказательств, – очень даже свойственно это нам, татарам. Рукопись совсем ненадолго попала в руки и к вашему покорному слуге. Упершись локтями в эти мемуары, раздувшись от важности, я не собираюсь выражать каких бы то ни было новых идей, говорить что-то иное, доселе неизвестное о Мусе и его окружении, упаси меня Бог от такого. Если необходим какой-то новый, обновлённый взгляд на всем известное старое, пусть его вырабатывают специалисты, которым ведом каждый шаг Мусы и его группы, каждое их деяние. Мир не изменился, просто открылись его теневые полушария, практически низвергнуты решётки архивов, обмякли и поддались замки на ртах. А значит, изменится взгляд и на татарскую историю, откроются и выйдут на авансцену новые неопровержимые факты и доказательства… Будущее само покажет, нужна или нет справедливая оценка деятельности Мусы и его окружения. Попытки подкорректировать историю зачастую приводят к ещё большему её искажению!


