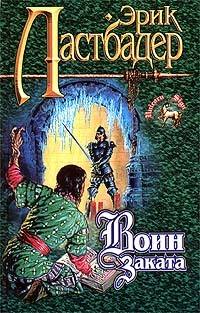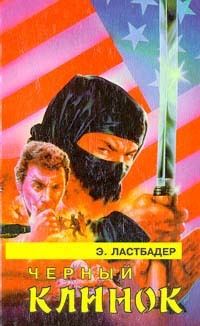полная версия
полная версияЧерное сердце
– Война мне чужда, – в голосе старика не было враждебности, а только печаль. Он спросил меня, знаю ли я суть геометрии – «фенг шуй», так назвал он ее. Я сказал, что нет.
– Окружающий нас мир – земля, воздух, огонь, вода, растения – сотканы из естественных сил. Человек либо сливается с этими силами, пребывает в союзе с ними, либо действует против них. Я по опыту знаю, что люди Запада не понимают, насколько это важно, – он замолчал, думая, что я обижусь на эти слова и уйду. Но я остался, и он продолжил: – «Фен шуй» – очень важная наука. И ты – странный, особый иностранец. Ты излучаешь силы, а для человека Запада это необычно. Скажи, ты явился из джунглей?
– Да.
– Но не из джунглей Китая... Впрочем, твои джунгли отсюда недалеко.
– Достаточно близко, – ответил я.
– Там ты – лидер. Другие полагаются на твои решения.
– Верно. Многие из моих людей боятся джунглей.
– Но не ты, – сказал он. – Нет. Потому что в тебе я вижу союз с растениями и землей. В джунглях ты как дома.
Трейси умолк и снова взглянул в окно.
– Не удивительно, что Бобби так тебе доверял, – сказала Лорин. – Он чувствовал такого рода вещи.
– Господи, ну давай перестанем говорить о твоем брате! Лорин поджала ноги.
– Для меня очень важно понять, сделал ли он правильный выбор, уехав из дома. Был ли он счастлив...
– Счастлив? – оборвал ее Трейси. – Да ни один нормальный человек не мог быть счастлив в подобных обстоятельствах! – Он резко встал. – Если хочешь знать мое мнение, то лучше бы он оставался дома!
– Черт бы тебя побрал! – крикнула она. – Как ты можешь такое говорить? Он был твоим другом!
– Я это говорю, – как можно мягче произнес он, – потому что тогда бы он был бы жив.
– Я не желаю этого слушать! Я хочу верить, что он был в мире с самим собой! Что он не зря туда отправился! Что он обрел что-то свое до того... Господи! До того, как его растерзали!
– Перестань, Лорин...
– Но ведь так и было? Правда? Его растерзали? Замучили?
– Я уже говорил тебе, что легких смертей там не бывало.
– И смерть Бобби, – она рыдала, – смерть Бобби была самой страшной!
Он обхватил ее, прижал к груди, а она содрогалась от рыданий. Он вытирал ее беспрестанно бежавшие слезы. Наконец она начала немного успокаиваться.
– Я тебя спрашивала, а ты никогда мне ничего не рассказываешь, – всхлипывая, пробормотала она.
– Я думал, что все уже тебе рассказал, – мягко произнес он. – Пойдем спать.
Свернувшись клубочком, он заснул. Голова его лежала у нее на плече. Она гладила его густые волосы и смотрела вверх, на потолок, по которому скользили отсветы проезжавших по улице машин.
У противоположной стены, на книжной полке, стояли две каменные статуи. Время оставило на них свои следы. Справа стоял нага– семиглавый змей из камбоджийской мифологии. Слева – гаруда, человек с птичьей головой. Они не были символами добра или зла, однако ненавидели друг друга. И никто, даже знатоки кхмерской мифологии, не могли припомнить причин этой смертельной вражды.
Она никогда не говорила об этом Трейси, но она не могла припомнить, каким был ее брат. Нет, она прекрасно помнила его ребенком и тощим подростком, но умер он мужчиной, а вот воспоминаний о взрослом Бобби у Лорин не осталось.
По щекам ее струились слезы, и она отвернулась, боясь, что слезинка капнет на Трейси и разбудит его. Наверное, он все же уловил это движение, потому что беспокойно зашевелился во сне. Ему что-то снилось.
Он вдруг вынырнул из ее объятий и совершенно четко произнес одно слово.
Глаза его раскрылись, и она вновь успокаивающе обняла его.
– Все в порядке, – прошептала она. – Это всего лишь сон. Но он все еще был под влиянием сна, еще искал губами несуществующие уста, он еще чувствовал жар женского тела, который в кошмаре превратился в удушающую жару Юго-Восточной Азии. Джунгли, разрывы снарядов, языки химического пламени, кровь и крики, жизнь, утекающая во влажную, грязную землю, лицо Бобби, искаженное, побелевшее от боли, глаза предательства, ожоги и голос Май: «Как много от нее видишь ты во мне?». Заповедь нарушена. «Могла бы я быть ее сестрой?» Заповедь Фонда.
– Расскажи мне, Трейси, – раздался голос Лорин. – Почему ты туда отправился?
– Я хотел быть там, – он еще не окончательно проснулся, поэтому не думал над ответами.
– Чтобы убивать?
– Нет, – он покачал головой. – Не для этого.
– Но на войне убивают. Она для того и создана.
– Я пошел... Потому что хотел кое-что доказать. Самому себе, – глаза его были подернуты туманом. – Мама всегда за меня боялась. Этот страх сидел в ней так глубоко... И я однажды утром проснулся и подумал: «Этот страх заразил и меня, и я должен победить его». Поэтому я обратился к отцу и попросил его о помощи.
– И он взял тебя туда, где сам работал.
Трейси кивнул.
– И тебе понравилось... Понравилось то, чем там занимались.
– Я хотел избавиться от страха. А для этого надо было попасть в самую опасную ситуацию.
– Но ты был не таким уязвимым, как... Бобби.
– Да. Нет... Когда я пришел в армию, я был, может быть, еще более уязвим. Но там... Это место закалило меня.
– И теперь ты действительно бесстрашен.
Он не ответил. Дыхание его было тяжелым и прерывистым.
– Ты говорил во сне.
– Что я сказал? – Его окатило холодом.
– Ты назвал чье-то имя.
– О Господи! Неужели Бобби?
– Кто такая Тиса?
– Я не знаю, – солгал он.
* * *Киеу сидел по-турецки на коврике в центре комнаты и изучал только что составленный им гороскоп. Хотя Преа Моа Пандитто и был категорически против гороскопов, для Киеу существовала связь между буддистскими учениями и астрологией, и связь крепкая. И буддизм, и астрология были для него не учениями, а образом жизни, этот образ жизни он не только не подвергал сомнению – он о нем просто не задумывался. Жил, и все. В нем он видел последовательность времен и место каждого конкретного существа в этой последовательности, его особую нишу. Дом.
Когда он был у красных кхмеров, то вынужден был от всего этого отказаться. Для них что буддистские монахи, что проститутки, что астрологи – все были отбросами общества, «паразитами». И пока он был у красных кхмеров, он должен был разделять из воззрения.
Аспекты, влияния, «дома»... На первый взгляд все эти элементы казались не связанными между собой. Но чем дольше он изучал таблицу, тем яснее видел, что эта связь существует. Как будто событиями управляли какие-то невидимые силы. И пусть он видел лишь намек, если намек верен, он должен будет предпринять самостоятельные действия.
Во всем, кроме этого, Киеу беспрекословно подчинялся Макоумеру. Он полагался на него безоговорочно. Но мир астрологии – это было нечто иное. Макоумер его не понимал, а в областях, где он ничего не понимал, он не мог действовать.
Киеу отложил ручку и бумагу, закрыл глаза. Он чувствовал атмосферу дома, она была для него живой, и в этом живом дыхании дома он ощущал чью-то боль – то было одиночество Джой. Да, весь дом держался на ней, но, как Киеу видел, они с Макоумером редко бывали в чем-нибудь едины. Они вообще редко соприкасались душами. Ее одиночество и печаль казались Киеу жестокими и несправедливыми, как казалось ему жестоким и несправедливым его собственное детство. Его рука начала дрожать – совсем так, как дрожала рука в кошмарах, когда в них являлась Малис. В кошмарах, лишавших его сна.
На нем была просторная черная хлопчатобумажная рубашка и штаны, которые держались на продернутом в пояс шнурке. Обуви на ногах не было. Форма красных кхмеров. И хотя ее с тех пор многократно стирали, казалось, она все еще хранила запах тех дней огня и смерти в Камбодже – никакие стиральные порошки не могли уничтожить эту вонь.
И все же он отказывался выбрасывать эти тряпки. Более того, в определенных ситуациях предпочитал надевать именно их. Как ни странно, в них он обретал какую-то темную силу, помогавшую ему выдерживать те дни и ночи, когда его терзали кошмары воспоминаний.
А порою, открывая нижний ящик комода и обнаружив там выстиранный и аккуратно сложенный наряд, он задавал себе вопрос: откуда он? Кому принадлежит? И с трудом вспоминал, что именно ему.
Он сидел в самом центре помещения подвального этажа. «Я ищу убежища в Будде», – начал он ритуальное песнопение, настраиваясь на голос вселенной и немигающим взором глядя на маленького бронзового Будду, окруженного двенадцатью тонкими благовонными свечами. Они медленно тлели, и дымок от них тянулся прямо вверх, словно пальцы, указывающие Путь. Он скользил подлинному извилистому коридору памяти, связывающему его с прошедшими столетиями. Он видел себя мысленным взором: черный ворон, горящая земля, реки крови, карканье, низвергавшееся с небес. Он превращался в рыбу в ручье, в тигра в густом кустарнике, в змея, свернувшегося у старого пня. И деревом стал он, травою, растущей у его корней, горячим ветром, шелестящим в листве. А потом он стал никем и ничем, он стал свободно парящим, лишенным «эго» святым.
Но это состояние длилось недолго. Малис! Его глаза распахнулись, и он вскочил. Ноги словно налились свинцом – он почувствовал это, когда шел к секретеру из розового дерева. Дверца его держалась на хитром замке из меди. Он снял с шеи маленький медный ключик на шнурке, вставил в замок, открыл.
Достал из секретера стальной инструмент с обтянутой кожей рукояткой. Этот инструмент, примерно в фут длиной, был круглым, к рукоятке прикреплена кожаная петля. Киеу продел в нее руку, крепко обхватил рукоятку – она была сделана по руке, словно ратная рукавица. И он почувствовал спокойствие, которое должно было прийти к нему с молитвой, но не пришло.
И тихо, тенью заскользил по комнате. Комната была освещена лишь голой, без абажура, лампочкой. У стены стояла старая потертая кушетка, телевизор образца пятидесятых годов – со скругленной трубкой, на полу лежали сложенные в стопки вещи. А с потолка свисала тяжелая боксерская груша. Она была испещрена порезами, будто какая-то гигантская кошка пробовала на ней свои когти.
Киеу, глядя куда-то в сторону, двигался к груше. Подойдя приблизительно на два фута, он с такой стремительностью взмахнул левой рукой, что любой, который бы при этом присутствовал, счел бы, что никакого движения и не было, что это только мираж.
Однако груша на огромной скорости отлетела от Киеу, а он, заведя за голову руку с зажатым в ней инструментом, из которого от резкого движения вылетел стальной прут трех футов длиной, движением кисти послал инструмент вперед. Раздался резкий свистящий звук, и прут с огромной силой ударил по летавшей, словно маятник тяжеленной груше. Киеу кружил вокруг груши, методично нанося удары, терзая ее шкуру. Тяжелая цепь, на которой висела груша, жалобно скрипела.
Ярость сжигала его сердце. В сердце его была незаживающая, гниющая рана, края которой были чернее ночи.
Его глаза были плотно закрыты, мускулы напряжены, он вновь чувствовал жаркий влажный воздух Пномпеня. Он видел себя, сидевшим по-турецки и смотревшим на Малис. Она танцевала, в ее волосах играли блики света, руки ее совершали бесконечные волнообразные движения, тело изгибалось. Она идет, движется к нему...
Нет, нет, нет... Теперь лишь это повторял он, снова и снова нанося разящие удары, пот бежал по его гибкому, мускулистому телу.
Отвергнут, отвергнут, отвергнут – кричал его разум. И Джой отвергнута тоже. Как это все ужасно...
Откуда-то сверху раздался звук, и он обернулся. Взгляд его был черен и пуст. Киеу стоял, широко расставив ноги, занеся над головой для очередного удара прут.
Человек, стоявший на верхней ступеньке лестницы, помедлил, будто не решаясь, потом все же спустился. Киеу увидел, что это была Джой Трауэр.
– Ой, – сказала она, – а я и не знала, что здесь кто-то есть.
Киеу вернулся к занятиям. Лицо его блестело от пота. Джой постояла немного, вздрагивая при каждом ударе, потом собралась было уйти, но передумала.
– Ужин готов...
Киеу кивнул. Он продолжал наносить удары по тяжелой кожаной груше.
– Но если вы... – Джой помолчала, – я знаю, что вы занимаетесь каждый день, – стальная плеть с чавканьем вгрызалась в кожу, – и я не хочу вам мешать, – ее взгляд не отрывался от Киеу. – Я бы никогда не посмела беспокоить вас во время молитвы.
Пот лил с него градом, он сбросил черную блузу. Спина и грудь его блестели.
– Я не знаю, что случилось, – говорила Джой, не обращая внимания на его молчание, – но я вдруг почувствовала себя такой одинокой в пустом доме, – «чавк», «чавк» вгрызалась плеть. – Извините, что я пришла, но мне... мне захотелось хоть с кем-то пообщаться.
Киеу опустил прут. Ярость еще клокотала в нем, но уже не так бурно – физическая нагрузка на время изгнала из него демонов. Он повернулся к ней лицом. Дыхание его было теперь совершенно ровным.
– Конечно, вам не понравится то, что я вам сейчас скажу, но с ним я не чувствую себя счастливой... Он не может сделать меня счастливой, – это вырвалось у нее непроизвольно, и она отвела глаза.
Господи, она и Макоумер... Они бесконечно кружили вокруг друг друга, словно искали что-то, что им никогда не суждено найти. Как неловко получилось... Почему ей просто не повернуться и не уйти из подвала? Но она не могла подняться наверх, одиночество подавляло ее. Или за ее нежеланием уходить стояла иная причина?
– Ну скажите хоть что-нибудь, – проговорила она, подняв на него глаза. – Хоть что-нибудь... – и умолкла. Его взгляд поглотил ее разум, ее тело, ее чувства. Он словно опалил ее жаром, сила его личности преодолела разделявшее их расстояние и коснулась ее, словно невидимая рука. Она почувствовала, как напряглись мышцы на внутренней стороне ее бедер.
Да, думал Киеу, Макоумер не сделал ее счастливой. Возможно, это не его вина. Природа – тот зверь, которого укротить невозможно. Макоумер был гением по природе своей, и он по-настоящему любил Киеу – без этого он не был бы Макоумером, а Киеу был бы мертв, как мертвы Сам и Малис, как вся его семья, погребенная в истерзанной земле Кампучии.
Киеу знал свой долг. Если он доставит Джой радость, если он рассеет ее боль, тем самым он отблагодарит Макоумера. Он знал, как важны для Макоумера Джой и ее брат. Если Джой не найдет удовлетворения в стенах этого дома, она станет искать его где-то на стороне. Такого Киеу позволить не мог.
Он видел ее слезы, он понял ее боль. То, что он должен и может совершить, он совершит ради Макоумера. И если он не даст Джой то, чего она жаждет, он оскорбит Макоумера.
– Вы должны научиться слышать большее, чем слова. Вы должны научиться слушать не только ушами, но глазами и сердцем, – он подошел к ней достаточно близко, чтобы почувствовать трепет ее тела, биение сердца – то ли от страха, то ли от волнения.
Ей вдруг показалось, что стены вокруг ожили, задышали, она услышала басовитое рокотание кондиционера, почувствовала на щеке дуновение ветерка из невидимой щели. Она глубоко вдохнула запах этой комнаты – запах влажности, смешанной с каким-то резким ароматом.
Но острее всего она по-прежнему чувствовала взгляд Киеу. Его глаза были черными, блестящими и бездонными, она видела в них свое отражение – и не узнавала себя.
Ей вдруг стало ужасно жарко, лоб и верхняя губа покрылись капельками пота и, прежде чем она успела что-то сообразить, Киеу наклонился к ней, и, заведя ей за голову свой стальной прут, притянул ее к себе. Она почувствовала, как его язык начал слизывать бисеринки пота с ее губ и лба. Это было настолько острое ощущение, что она застонала, колени у нее подогнулись, она откинулась назад и упала бы, если бы ее не поддерживал прут. Прут был горячим, как и ее тело.
Она смотрела на Киеу и, как ей казалось, видела его впервые. Она увидела, что на груди его совершенно нет волос, и это настолько ее поразило, что она протянула руку и провела ладонью по его гладкой мускулистой поверхности. И вскрикнула – рука ее словно погрузилась в пылающую реку, и огонь этот передался ей, пробежал по всему телу и жарким озером разлился у нее между ног.
Он снова попытался наклониться к ней, но она не хотела отрывать от него взгляда и удерживала его вытянутой рукой. Его кожа казалась бронзовой, и когда она смотрела в его глаза, ей казалось, что она смотрит на солнце.
Она лишилась всякой воли, вся плоть ее превратилась в горячую густую жидкость, по которой пробегали волны страсти. Голова кружилась, стала легкой-легкой, а бедра и ноги налились тяжестью. Она переставала быть самой собой, она стала фантомом, плодом чьего-то воображения, и, глядя в глаза Киеу, она поняла, чьего.
Его невыносимо жаркие губы коснулись ее губ, и веки ее опустились, опали, словно тяжелые крылья. Он медленно притянул ее к себе и начал тихо поглаживать внизу живота – она вспомнила сиамского кота, который был у нее в детстве: как этот кот урчал и изгибался, когда она поглаживала его за острыми ушками. Господи, сейчас она походила на этого кота!
Она задрожала и обняла его за шею – теперь уже она сама притягивала его к себе, все плотнее, плотнее, она жадно приникла к его губам – жизнь с Макоумером развила в ней ненасытную жажду.
Их тела прильнули друг к другу, и она ощущала его восставшую плоть, словно он весь превратился в этот огромный орган, и она, одной рукой приподнимая подол платья, шептала: «Сюда, сюда». Ее экстаз рос, она впервые в жизни стала молить мужчину войти в нее. Почувствовать его, ощутить его внутри себя, раскрыться его глубокому и горячему проникновению – вот чего ждала она сейчас больше всего на свете.
И наконец она почувствовала его у входа и, закричав от восторга, обхватила его могучий орган, ощутив на пальцах его и свою влагу.
Она вскарабкалась на него, повинуясь первобытному инстинкту, весь лоск цивилизации слетел с нее, она обхватила его спину ногами, и, подталкивая его пятками, буквально впихнула в себя.
Ее страсть начала уже отзываться в нем, но Киеу вновь почувствовал привычную в этих ситуациях боль. Внутри него все опять умерло, похолодело, и хотя он исправно вершил свою работу, это была всего лишь работа, он как бы наблюдал за ее страстью со стороны, и с любопытством ученого фиксировал ее проявления. На него нахлынули воспоминания жаркой ночи в Камкармоне; распахнутое окно, колеблемые ветром занавески, и Малис, распростертая на постели, ласкающая себя Малис. Каменные чедисклонились над ним, он почувствовал сладковатый запах тления, запах подкрадывавшейся к нему смерти. Он почти не отреагировал на длительные конвульсии Джой, почти не заметил, как она сползла с него, стала перед ним на колени и начала ласкать его языком. Она помогала себе руками, она ласкала, впитывала, сосала его, и его единение с ней – он все еще ощущал это единение, она слишком была похожа на него в своем одиночестве и горечи – пробудило в нем те чувства, которые он предпочитал бы в себе не тревожить. Смерть неслась к нему на всех парусах, сладчайшая боль волнами пронизывала его кмоч, и он яростно вертел головой, стараясь отогнать удовольствие, готовое поглотить его целиком.
Джой почувствовала, что он кончает, ощутила языком его драгоценную жидкость, еще более соленую, чем кровь, спазм за спазмом сотрясали его, и все новые и новые фонтаны этой жидкости проникали ей в рот.
Он уже не мог сдерживать себя. Малис! Малис!! Малис!!!
* * *Свернув за угол, Туэйт увидел пару машин «скорой помощи» из медицинского центра «Бельвью» – они стояли с погашенными фарами, пустые, да и вообще в полночь возле Центра медицинской экспертизы было тихо, как на кладбище. Но только снаружи – внутри здания работа не прекращалась круглые сутки. И, считайте, вам повезло, если удалось хоть на несколько минут поймать какого-нибудь младшего по статусу из медицинских экспертов.
В приемной сидел полицейский, которого Туэйт здесь прежде не встречал – негр с прической «афро» и зубами крупными, как лопатки. Детектив показал ему свой значок:
– Я к доктору Миранде.
Охранник кивнул, глянул в список телефонов, набрал внутренний номер:
– Скоро спустится, сэр.
Туэйт увидел, что на столе перед чернокожим полицейским лежит номер «Эбони»[13] и уже собирался побранить его, но затем передумал и спросил:
– Давно ты здесь работаешь?
– Около трех недель, – ответил чернокожий. – Между нами говоря, жуткая скукотища.
– Да уж. – Туэйт скорчил гримасу: – Все равно, что нести охрану кладбища.
– Сержант-детектив Туэйт?
Туэйт вытаращил глаза: доктор Миранда оказалась дамой индейского происхождения, по виду где-то под сорок. На ней был зеленый хирургический халат, темные блестящие волосы стянуты в узел.
– Вы хотели меня видеть? – у нее была привычка стрелять в собеседника словами, и Туэйту это сразу не понравилось.
– Да, – спокойно ответил он. – По поводу убийства в Китайском квартале.
– Не здесь, – бросила она, оглядевшись, словно они находились на детской площадке и он бросил в присутствии детей бранное слово.
Она провела его в свой кабинет на третьем этаже. Там было тепло и уютно, если вам, конечно, нравятся бунзеновские горелки, перегонные кубы, колбы и толстые учебники по патологоанатомии. Туэйту все эти вещи определенно не нравились.
Доктор Миранда уселась на деревянный стул с высокой спинкой за заваленным бумагами столом. Повернулась к нему, сунула руки в карманы, закинула ногу на ногу. Туэйт увидел, что она обута в ортопедические ботинки – плоскостопая, подумал он. Так ей и надо.
– Итак, – изрекла она профессорским тоном, – что вам угодно? До трех ночи мне надо успеть написать еще три отчета, а в десять утра выступать в суде.
– Давайте начнем с самого начала.
По правде говоря, Туэйта вовсе не интересовало это убийство. Флэгерти поручил расследование его группе, а он перепоручил Эндерсу и Бораку. Типичное дело, некий член банды «Драконов» был застрелен с близкого расстояния из малокалиберного пистолета в оркестровой яме кинотеатра «Пагода», что на Восточном Бродвее.
– А вы не поздно явились со своими вопросами, сержант?
– Да уж, припозднился. Был ужасно занят: целый день выдувал пузыри из жевательной резинки. Ну, меня поймали за этим занятием и назначили в ночную смену. А вы почему задержались?
– Исключительно из преданности делу, – ответила она без всякого намека на иронию. Потом обернулась, достала из стоявшего за спиной металлического шкафа папку и швырнула ему через стол:
– Читайте здесь. Мы книги на дом не выдаем. Туэйт знал, как ей отомстить. Он медленно полез в карман, достал свежую пачку сигарет «кэмел» без фильтра, отодрал ногтем целлофан.
Она подождала, пока он щелкнул зажигалкой и объявила:
– Прошу вас не делать этого.
Туэйт, который давно уже заметил надпись «Не курить», но ничего не ответил, глубоко затянулся и со свистом выпустил дым. Медэксперт с отвращением отвернулась.
Конечно, можно было бы получить эту папку по обычным каналам, через полицейское управление, но у Туэйта была иная задача.
Обычно полицейский фотограф снимал тела тех, чья смерть была насильственной или предполагалась таковой. В случае с Джоном Холмгреном таких снимков быть, по идее, не должно. Однако медэксперт, вызванный полицией, известил Барлоу, главного медэксперта, и тот, учитывая личность покойного, выяснил причину смерти лично. Его предварительный устный отчет гласил: обширный инфаркт миокарда, вызванный крайним переутомлением. Но поскольку на дело выехал сам главный эксперт, при нем был и фотограф, который, хоть в данном случае это и было не обязательно, все же сделал снимки. И Туэйту очень нужны были эти фотографии.
Доктор Миранда закашлялась. Туэйт делал вид, что просматривает материалы убийства в Китайском квартале, тщательно игнорируя адресованные ему злобные взгляды. В этот момент зазвонил телефон, и доктор Миранда схватилась за трубку, как за спасательный круг. Туэйт прислушался.
Доктор Миранда некоторое время молчала, потом сказала:
– Я сейчас спущусь, – положила трубку, встала. – Привезли очередного. Мне надо идти, а вы, когда закончите, просто оставьте папку у меня на столе.
Уже у дверей она ехидно улыбнулась:
– Только не рассиживайтесь. Вам следует при уходе отрапортовать офицеру Уайту, нашему охраннику, да и я сюда загляну вскорости.
– От всей души вас благодарю, – ответил Туэйт, даже не удосужившись обернуться.
Он прислушался: ее мягкие ортопедические ботинки прошелестели прочь. Выждал пять минут, выглянул в коридор – коридор был пуст.
Доктор Миранда была не только одним из четырех медэкспертов – в ее кабинете также хранились и все дела. Туэйт проглядел отсек на букву "X", но дела Джона Холмгрена там не было. Он огляделся – в дальнем конце кабинета, у окна, стоял еще один закрытый на ключ шкаф.
Туэйту потребовалось две минуты на то, чтобы открыть замок; он сможет пробыть здесь еще не более трех минут – доктору Миранда явно не понравится, что он так долго проторчал в ее офисе.