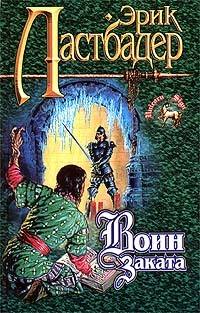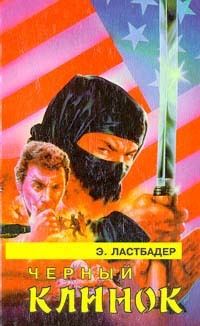полная версия
полная версияЧерное сердце
Сока не находил себе места. Уже через неделю стало ясно, что отец не вернется. Но мать не хотела, не могла в это поверить. Почти все время она проводила в королевском дворце, надеясь узнать хоть что-то о муже. Но ни у Сианука, ни у членов кабинета министров, возглавляемого новым премьером, не находилось для нее времени.
А однажды солдаты избили ее так сильно, что она не смогла идти. Сока, истомившись от ожидания, отправился ее разыскивать. Он притащил ее в дом, вызвал врача. Едва оправившись, она снова устремилась к зданию правительства и, сидя на ступеньках перед входом, тщетно пыталась получить ответ.
Она не нашла ничего, кроме презрения, и побледневшая, обессиленная, побрела домой, чтобы больше никогда не выходить за пределы виллы.
Сока тщетно пытался успокоить ее. Однажды возле Центрального рынка он встретил Рене.
– Мне очень жаль твоего отца, – сказал француз. – Я пытался предупредить его из самых лучших побуждений.
Сока понимал, что Рене говорит правду, но не смог заставить себя поблагодарить его.
Пришла весна, и с нею началась война. Преа Моа Пандитто ушел из Вотум Ведди. Храм, подобно каменным усыпальницам, превратился в воспоминание о несчастном прошлом Кампучии.
Пномпень погибал. Порою Соке казалось, что жизнь, которую когда-то вела его семья, существовала лишь в его воображении, что это просто был счастливый сон. Потому что настоящее превратилось в кошмар.
Он пытался объяснить матери, почему должен уйти. Он должен бороться за отца, за нее, за Преа Моа Пандитто. Прежние правила и прежняя жизнь сметены неудержимой волной. Больше не было времени ни для мира, ни для понимания, ни для изучения прошлого. Будде придется подождать. Но он никогда не забудет того, чему его учили.
Хема не слышала его. Она немигающим взором смотрела на древнее баньяновое дерево за окном. Она постарела, голова ее тряслась, шея была тонкой-тонкой, высохшей. Глаза выцвели, стали похожи на глаза слепца.
Сока расцеловал ее в обе щеки, продолжая шептать, уговаривать в надежде получить разрешение. И, не говоря ни слова Малис – сестра отправилась в школу за Сорайей и Ратой, – выскользнул из дома, ушел из Камкармона, из Пномпеня, ушел на северо-запад. По тому пути, по которому на встречу с революцией ушел его старший брат.
* * *Где-то в центре города выли полицейские сирены. Воздух был влажным. Тротуары, стены домов излучали накопленную за день жару, и сейчас, в полночь, было так же жарко, как в полдень.
Поворачивая на Тринадцатую улицу, Трейси почувствовал, как он устал. Квартира его находилась на втором этаже маленького аккуратного особняка, неподалеку от здания Медицинской экспертизы.
Особняк был окружен кованой металлической оградой, вздымавшейся на высоту всех четырех этажей. Орнамент ограды, витиеватый и воздушный, придавал дому какой-то южный, ньюорлеанский вид.
Он взял свою почту, вбежал по лестнице. Тело его устало, но мозг работал четко. Он все время думал о том электронном устройстве, которое нашли в кабинете Джона.
Вот и площадка второго этажа. Дверь в его квартиру находилась в противоположном конце холла, и Трейси ясно видел, что из-под нее на ковер пробивается полоска света. Уходя утром, он свет выключил – это он хорошо помнил.
Быстро и бесшумно он прокрался к двери. Вставил ключ в замок, повернул, распахнул дверь и прижался спиной к стене холла.
Он затаил дыхание, ожидая. Но ничего не произошло.
Свет лился из квартиры ровно, на полу не появилось ничьей тени. Он прислушался, но ничего не услышал.
Он стремительно ворвался в квартиру. Все было так, как он оставил утром, за исключением того, что на обеденном столе стоял стакан. С белым вином. А рядом со столом, во все глаза глядя на него, стояла Лорин.
– Господи Боже мой, – выдохнул он и захлопнул за собой дверь. – Только молчи. Ты что, подкупила швейцара? Она выдавала улыбку:
– Я сказала ему, кто я такая. Похоже, я ему понравилась.
– Я в этом просто уверен.
– Правда? – голову она держала прямо и напряженно.
– Балабан – грязный старик. Он полагает, что все балерины – девственницы. Видимо, в его грязных фантазиях скачут девственные балерины.
Лорин, несмотря на всю скованность, рассмеялась:
– Хорошо, что он не знает правды. Иначе бы он меня не впустил.
Трейси ничего не ответил и только отвернулся. Лорин прореагировала мгновенно:
– Ты же не сердишься, правда? – Он смотрел в сторону, и она сделала шаг к нему. – Я скучала по тебе, – прошептала она, словно пускала через реку разделявшего их времени спасательный плотик. – Я даже не могу сказать, как.
«Почему ты ушла от меня?» – хотел он спросить. «Зачем ты причинила мне такую боль?» Ее объяснений ему было недостаточно. И он спросил:
– Разве я могу теперь верить тебе?
Лорин вздрогнула, словно по комнате пронесся холодный ветер. Именно этого она и боялась, именно это и заставляло ее руки дрожать. Но она не хотела отступать.
– Ты действительно можешь мне не верить, – искренне сказала она. – Никаких причин нет. Кроме того, что все изменилось. Я... Я не знаю, как это выразить... Я нашла тебя в себе.
По щекам ее бежали слезы.
– Но разве это что-то значит для тебя? Я имею в виду...
слова. Слова могут лгать, слова могут доносить лишь половину правды, кто знает...
Она молча подошла к нему, приказывая себе не бояться. Мысль о том, что он может поступить с ней так, как она поступила с ним, невыносимым грузом давила на плечи, это был древний страх, и оттого более сильный. И она боролась со страхом.
– Но что ты сейчас чувствуешь? – мягко спросила она. И она коснулась его, сначала кончиками пальцев, потом провела ладонью по его плечу и груди. Она знала, что делает, знала, что еще никогда не касалась мужчины с такой любовью и такой нежностью.
Почувствовав это прикосновение, Трейси взглянул на нее. И почему-то вспомнил старого кхмерского священника, полного тепла и любви. Чужак в чужой и враждебной стране, он был тогда потрясен этим теплом и его силой. И сейчас, в прикосновении Лорин, он ощутил ту же силу.
– Мы с тобой были воюющими державами, – она кивнула, радуясь уже тому, что он заговорил. – Мы лгали друг другу, мы обманывали друг друга, превращая злобу в ненависть, – он по-прежнему не касался ее, – а ненависть – в боль.
Его слова испугали ее, и, совершенно инстинктивно, она придвинулась еще ближе, прижавшись к нему бедром. На ней были темно-зеленые шелковые брюки, мужского покроя блузка. Сверкающие волосы стянуты в хвост пурпурной лентой. Она была почти не накрашена – только немного губной помады и немного румян: грим она накладывала только когда выходила на сцену. В ушах – маленькие бриллиантовые сережки.
– Но я здесь, – голос ее дрожал, она снова была на грани слез. – Я вернулась, – лицо ее, казалось, светилось. – И я дома. Я пришла домой.
Она сказала то, ради чего пришла. Она не репетировала свою речь и даже не обдумывала заранее, что скажет – она слишком для этого волновалась. Жизнь стала для нее непереносима: да, она танцевала, но в промежутках просто сидела, уставившись в пол, и сердце ее колотилось так, как колотится сердце моряка, выброшенного на чужой берег.
Та тонкая связь, которая сейчас возникла между ними, была такой слабенькой, словно одинокий огонек свечки в темной ночи. Что, если порыв ветра загасит его? Она испугалась, что порыв этот близок, и затаила дыхание. Она действительно боялась дышать, и лишь слушала, как гулко бьется ее сердце. Время остановилось. Сколько времени пробыла она здесь? Минуты, часы, дни? Неважно. Это не имело для нее значения. Существовал лишь этот хрупкий миг, и она знала лишь одно: она не хочет его терять, не хочет, чтобы миг кончался.
А потом ее охватила паника: что она будет делать, если он отошлет ее прочь? Конечно, будет жить, но для чего, зачем?
Она искала в его глазах ответа. В панике она пошевелилась, и нить, такая тонкая, перервалась. Он протянул руку и отстранил ее.
– Что, что? – задыхаясь, спросила она.
– Просто... дай мне немного времени, – сказал он. – Все произошло так быстро. И я не знаю, готов ли к этому, – он покачал головой. – Между нами выросла такая высокая стена, что ее одним ударом не разрушить.
– Ты хочешь, чтобы я ушла? – вопрос вырвался против ее воли, и она так разозлилась на себя, что чуть не разрыдалась.
Он не ответил, и она прошла к стереопроигрывателю, наугад взяла пластинку. Поставила на проигрыватель, прибавила звук.
Вернулась к нему и просто взяла его руку в свою. В этом жесте, не было ничего нарочитого или двусмысленного. Она положила его руку себе на талию.
По комнате, словно туман с Гудзона, поплыла ранняя вещь Брюса Спрингстина «Духи ночи». И вместе с мелодией к ним пришли призраки их недавнего прошлого, невинность, которую они потеряли. Низкий, сильный голос Брюса заполнил все пространство, и ритм, ритм... Она выбрала правильно.
Она улыбнулась ему, пряча за улыбкой страх, и, склонив набок голову, одними губами прошептала: «Давай».
Они танцевали. Они снова были там, в начале, когда еще не наступила боль. Лорин танцевала всегда, танцевала днем и ночью, под иные ритмы. Но и рок-н-ролл был для нее хорош, в ней вспыхнула вся энергия, накопленная за долгие годы занятий.
Музыка несла, качала, разлучала и сводила их, как сводила музыка в ночных танцевальных клубах, куда они раньше любили ходить – сейчас она не могла вспомнить ни одного названия. Возможно, этих клубов уже и нет, или они теперь называются по-другому, а, возможно, это она сама изменилась.
В конце одного их куплетов раздалось саксофонное соло, и она подумала: «Молодец, Брюс, давай, пусть музыка закрутит его, пусть принесет его ко мне, к новому началу, за грань боли и бессонных ночей».
Трейси держал ее в руках и чувствовал, как по всему телу его пробегает дрожь, и как под волной нахлынувших воспоминаний рушится броня, в которую он заковал свое сердце. Поцелуй на улице, под фонарем, когда ночь грозит вот-вот перейти в утро, ее скуластое лицо, широко расставленные, чуть раскосые глаза, прекрасные вспухшие губы. Боль ушла из него и вместе с нею – мертвенное спокойствие, которое он осознал только тогда, когда его лишился.
Он крутанул ее и потом резко притянул к себе, схватил на руки и прошептал: «Лорин».
Этот шепот был для нее прекраснее всякой музыки, и она подняла лицо, засиявшее в свете ламп, губы ее приоткрылись. Она не отрывала глаз от его лица, а оно все приближалось, приближалось, и она ощутила его губы на своей шее.
Трейси нащупал языком бившуюся тонкую жилку. Пальцы ее зарылись ему в волосы, он ощущал ее всю, чувствовал дрожь, пробегавшую по ее спине.
Запах ее был сильным и нежным, и в памяти его, словно моментальные снимки из прошлого, выплыли сцены их любви. Он вспомнил, какие ласки она любила, и губы его скользнули вниз, к третьей расстегнутой пуговице блузки. Он чувствовал, как солона ее кожа, а она откинула голову и закрыла глаза.
Он перенес ее на диван. Она попыталась расстегнуть ему молнию, но он оттолкнул ее руки, и когда она хотела задать вопрос, он запечатал ее рот таким страстным поцелуем, что она чуть не задохнулась, и сам начал расстегивать ей пуговицы блузки.
Он стянул с нее брюки и услышал ее глубокий вздох. Руки его ласкали ее грудь, а рот припал к тому месту, которое так жаждало его.
Он ласкал ее языком, сначала нежно, потом все яростней, Лорин застонала, мускулы ее напряглись, и ртом, уже полным ее влаги, он вновь стал ласкать ее соски.
Он повторял это снова и снова, пока она не утратила контроль, и, уже не владея собой и выкрикивая его имя, бесстыдно подняла ноги вверх.
– О, о, я кончаю... – застонала она, – О, любимый! – и обхватила бедрами его голову. А потом, вздохнув, упала на подушки.
По щекам ее текли слезы. Она шептала:
– Любимый, любимый!
Она целовала, его глаза, щеки, губы. Пальцы ее скользнули вниз, и она ощутила его божественную упругость. Она гладила и гладила его, пока он сам не начал стонать, и тогда она стала перед ним на колени и одним легким движением сняла с него брюки.
Ее рот начал ласкать его так, как ласкал ее его рот, сначала соски, потом все то, что было у него между ног. Она чувствовала языком и губами его длину, нежность и силу, к ней снова вернулось предвкушение оргазма – она и не предполагала, что так может быть, и когда он закричал, когда она проглотила все то, чем он одарил ее, она сама почувствовала, что кончает.
Она хотела его. Опять. Никогда в жизни она не чувствовала такого острого желания. И никогда еще так остро не хотела жить.
* * *Здесь, в лесу, он был в своей стихии. Он сливался с густой листвой старого дуба и клена, росших на дальнем конце полосы, за которой начиналось поле.
Он двигался по лесу так бесшумно, что его не услыхала ни одна ночная птица, ни одна лесная тварь – будь то кролик, мышь-полевка или бурундук – не скользнула прочь с его тропы. Лес принял его, и потому не замечал.
Ноздри его щекотал запах мокрой от дождя листвы. Он нашел удобное место и сел, по-турецки скрестив ноги. Прямо над ним на ветке сидела сова и бесстрастно изучала его своими желтыми глазами-плошками.
Бледный лунный свет омывал его так тихо и спокойно, будто он был еще одним растением. Он был надежно укрыт лесом и ночью.
Он почувствовал, как снисходит на него мир, и вспомнил своего Лок Кру: как бесшумно скользил Преа Моа Пандитто по лесным тропам, как сливался он с окружавшей его жизнью. Сквозь тонкие штаны он чувствовал влажность почвы, мягкость листвы. Это был его дом, его мир. Он начал повторять про себя священные слова, чтобы очистить разум и, что гораздо важнее, душу. Он воззвал к виненаканам, духам предков, чтобы они собрались вокруг него и придали ему сил. Он почувствовал их, он поднял голову и вытянул губы, чтобы поцеловать небеса.
Намо тасса Бхагавато, Арахато, Самма-Самбудасса! Намо тасса Бхагавато, Арахато, Самма-Самбудасса! Намо тасса Бхагавато, Арахато, Самма-Самбудасса!
На краю поля светились желтые огни дома, два теплых маленьких квадратика, словно звезды в ночи.
Из кармана черной хлопчатобумажной блузы он извлек два тонких листа бумаги. На каждом был нарисован круг, разделенный на двенадцать секторов. Внутри некоторых были вписаны иероглифы, столбики иероглифов сбегали по правым сторонам каждого листка.
Осторожненько он расстелил их перед собой, рядом друг с другом. Это были гороскопы, изготовленные им несколько дней назад. Слева лежал его гороскоп, указывающий биение его жизни, взлеты и падения, тропы и тупики. Подобно всем таблицам, они не предсказывали будущее, но указывали личные склонности. Об этом следует помнить всегда – это был первый урок в трудном искусстве, преподанный ему в детстве. Эта наука нелегка, поскольку допускает слишком много интерпретаций, особенно на примитивном уровне. И требуются долгие годы упражнений и, помимо них, особое чутье, чтобы прочесть то, что предначертано.
Он взглянул на вторую таблицу. Высокий раздобыл для него только дату и место рождения Мойры Монсеррат. Но ему и этого было достаточно: с помощью двух таблиц он смог вычислить точный день и час, когда их пути должны пересечься.
Он быстро скомкал листы и сжег их, растерев пепел между пальцами. И почувствовал чье-то присутствие. Он повернул голову: на краю поля сидел маленький бурый заяц. Его длинные ушки нервно вздрагивали, он тяжело, как после долгого бега, дышал.
Ночь замерла, улегся даже легкий ветерок, шевеливший верхушки колосьев.
И тут он увидел лису, крадущуюся по краю поля. Ноздри его вздрогнули, он странным движением повернул голову, прислушиваясь, как поворачивают ее бродячие аскеты-слепцы в грязных плащах.
Умная морда лисы приподнялась, длинный нос принюхивался, лунный свет блеснул в глазах зверя. И вдруг лиса сорвалась с места. Зайчишка перестал тереть мордочку лапами, приподнялся – но было поздно.
Все произошло в одно мгновение. Тельце его мелькнуло в воздухе и исчезло в пасти лисы.
Он сидел неподвижно, вслушиваясь. Было слышно лишь жужжание потревоженной мошкары, да на краю поля виднелся влажный след, который скоро поглотит земля.
Его щеки коснулся свежий северный ветерок, ветерок взъерошил волосы, ласково, словно материнская рука. Он по-лисьи поднял голову. На луну набегали облака. Скоро луне конец. Скоро начнется дождь.
Он снова взглянул на дальний конец поля, туда, где светились две желтых звезды. Ветерок раскачивал фонарики у входа в дом – казалось, они приглашают его. Природа знала, что должно произойти.
* * *Дождь лупил в окна, и по стеклам текли слезы. Ветер кашлял, как гончая на охоте, гнал по небу штормовые облака.
Мойра лежала на постели, сбросив покрывало. Несмотря на дождь, ей по-прежнему было жарко. Она проглотила таблетку снотворного и лежала, ожидая, пока лекарство подействует. Но сон не приходил.
Мойра встала. Ноги ее дрожали от усталости, она слышала, как бешено стучит сердце. Подошла к окну, отдернула штору, выглянула.
Темнота. Ветер, тасующий тени. Звуки ночи и шум дождя и больше ничего.
Она вышла из спальни, спустилась вниз – вид измятых простыней и такой большой и такой пустой постели постоянно напоминал ей о Джоне.
Губы ее приоткрылись, она прошептала его имя, как молитву. «Почему? – шептала она. – Почему ты меня оставил?» В этот момент она даже ненавидела его, больше, чем кого бы то ни было в своей жизни. И этот удар ненависти буквально сбил ее. Она обессиленно села на ступеньки, чувствуя спиной прохладу дерева. Положила голову на руки, погрузила пальцы в густые волосы. «О, Боже», – взмолилась она.
Конечно же, она не испытывала к нему ненависти. Она любила его первой настоящей взрослой любовью, и теперь, когда любовь ушла, она чувствовала такую боль, будто ее оскорбили, отняли у нее последнюю гордость.
Она обхватила себя за плечи и сидела на ступеньках, раскачиваясь из стороны в сторону. Она отдала ему всю себя, открыла ему свое сердце, а он оставил ее, оставил наедине со всей болью, со всеми желаниями.
– Господи, о, Господи, – сквозь слезы причитала она. – Что же со мной теперь будет?
* * *– Хорошо, достаточно, – Атертон Готтшалк уже лежал в постели. Иди сюда.
– Сейчас, – ответила жена. Она упорно манипулировала клавиатурой компьютера «Атари». На экране дисплея, стоявшего в изножье кровати, в электронную пыль рассыпались четыре зловещих корабля пришельцев.
– Роберта! – Было уже поздно, за полночь. Но вечера Готтшалка были такими же длинными, как и его дни. К тому же во время его греховных визитов к Кэтлин работа скапливалась, и надо было с ней разобраться. – Прекращай.
Оба они знали, что говорит он не всерьез – Готтшалк сам любил компьютерные игры, особенно «про войну». Его радовало, что подрастающее поколение уже пристрастилось к этим играм, как к наркотику. И все же ему хотелось побыть с женой. Если б только не надо было спать! Тогда бы он получил свой кусок пирожка... И сам усмехнулся при этой мысли – разве так можно думать будущему президенту США? В сердце у тебя, малыш, голода нет, зато в других местах... В конце концов, если великолепному Джону Кеннеди было дозволено слыть бабником, то почему же он себе этого позволить не может? Кеннеди, считал Готтшалк, был слабаком. Иначе бы он не навернулся в Заливе Свиней и во Вьетнаме. Если б он действовал правильно, кто знает, где мы были бы сейчас. И уж в куда большей безопасности. Да и мир выглядел бы иначе!
Он смотрел, как жена взбирается на кровать. Внешне она была прямой противоположностью Кэтлин – полноватая, с длинными каштановыми волосами и черными глазами.
– Уже четверть второго. В это время уже приличные люди давно лежат в постельках. Но не для того, чтобы спать. – Она шутливо пихнула его в бок кулаком и хрипло рассмеялась. Потом положила руку ему на грудь и поцеловала в губы. И он, вопреки самому себе, вздрогнул.
Однажды, во время этого ужасного сезона дождей в Юго-Восточной Азии, у Готтшалка, тогда еще не сенатора, случился сердечный приступ. В свое время от острой сердечной недостаточности умер его отец, дед скончался от удара. Готтшалк слыхал, что такие вещи передаются по наследству, но поскольку он побаивался обсуждать этот вопрос со своим врачом и потому не знал всех подробностей, глубоко запрятанный страх был тем ужаснее.
Довольно грубые приставания Роберты каждый раз заставляли его сердце замирать, и он полагал, что это тоже один из признаков сердечной болезни. Это был неуправляемый страх, он не мог рассказать о нем никому, тем более, жене.
Готтшалк перекатился на нее. Они тискались и хихикали, как подростки, в свете вспышек и разрывов компьютерной игры.
Роберта запустила ему руку между ног, и он застонал и расслабился. И в этот момент зазвонил телефон.
Готтшалк, отчаянно бранясь, сполз на край кровати и схватил трубку.
– Кто это? – рявкнул он.
– Я понимаю, уже поздно, но более удобного времени я не нашел.
– А, это вы, – Готтшалк узнал голос Эллиота, и тон его смягчился. – Что у вас?
– "Вампир" уже в воздухе.
– Потрясающе, – все шло по графику.
– Через пару недель у меня будет для вас полный пакет документов. Мы просто хотим получить побольше данных. Но, неофициально, могу вам сообщить, что вертолет в полном порядке.
– Во всех аспектах?
– Да.
Невероятно! Это непременно повлияет на исход голосования!
– Хорошие новости, как я понимаю? – спросила Роберта, когда он положил трубку.
– Отличные, – он улыбнулся. А затем опята потянулся к ней. Вниз по экрану скользили голубые корабли пришельцев.
* * *Мойра, полусонная, продолжала сидеть на ступеньках. Ей казалось, что ее поглотила пыль времен. Да, время – вот чего она боялась.
Какой будет теперь ее жизнь, жизнь без Джона? И даже если она встретит кого-нибудь другого, то какой в этом будет смысл? Если на каждом углу поджидала смерть, готовая похитить все то, что составляло радости и надежды жизни.
Мойре казалось, что все внутри нее выгорело.
Даже этот тихий деревенский дом уже не выглядел таким теплым и дружелюбным. Она была для него чужой, как чужой она чувствовала себя для всего мира. Ночь смыкалась вокруг нее, душила. Она ужасно хотела включить все лампы, чтобы изгнать тьму из дома и из своей души, но у нее не было сил встать.
Дождь хлестал по окнам, жесткими лапами стучал по крыше, в щелях старого дома завывал ветер – весь мир в унисон с ней пел песню отчаяния.
Огромным усилием воли она заставила себя дойти до конца лестницы. Кругом было темно, и когда она сошла с последней ступеньки, ей послышался громкий стук – будто с петель сорвалась ставня. Она глянула на окна: ставни были закрыты.
Она замерла и прислушалась – обнаженная, беззащитная, дрожащая. По коже у нее побежали мурашки.
В этот момент зазвонил телефон, и она вздрогнула. Ее бросило в пот. Она прошла на кухню, взяла трубку.
И тогда заметила, что кухонная дверь распахнута. Это она скрипела и хлопала на ветру.
Она шагнула к двери, чтобы запереть ее, и почувствовала босыми ступнями мокрый пол. Струи дождя, врывавшиеся с улицы, хлестали ее по ногам.
Мойра вдохнула влажный воздух – и задохнулась, потому что сзади ее за талию и за шею схватили чьи-то крепкие руки.
Она услыхала, как кто-то шепчет ей в левое ухо непонятные заклинания, почувствовала острый незнакомый запах. Она попыталась закричать, но, как это бывает в ночных кошмарах, не могла издать ни звука. Что-то перекрыло, перехватило ей горло, и она начала конвульсивно дергаться, как будто пыталась вызвать рвоту, чтобы очистить горло.
Она не видела лица того, кто душил ее: как будто ее собственный страх, ее собственная жажда смерти воплотились в силы, призванные ее уничтожить. И тут словно вспышка света пронзила Мойру: она вдруг поняла, что совсем не хочет умирать. Она начала бороться за жизнь всеми силами своего тела и души. Открыв рот, вцепилась зубами в ту непонятную плоть, которая обхватила ее горло. И почувствовала, что прокусила эту плоть, что в рот ей хлынула горячая кровь, что она захлебывается ею.
Ею овладела отчаянная решимость. Перед ней в прекрасном параде предстала череда дней и ночей, сладость дыхания, рассветы, улыбка друга, невинное лицо ребенка, ужин на траве... Теплые ручонки еще не рожденных ею детей, смех внуков, тот чудесный, волнующий опыт, который приходит со страстью, с жизнью. С жизнью! Всего этого жаждала она теперь с такой невероятной силой.
Она терзала зубами ту плоть, вонзалась все глубже и глубже и, как ни странно, почувствовала, что ее отпускают. Она попробовала закричать, но из ее уст раздался лишь ужасающий хрип – это выходил из легких стиснутый воздух.
Все еще оглушенная, она все же почувствовала, как что-то приближается к ней из тьмы, и инстинктивно закрыла руками лицо. И услышала сначала легкий свист, похожий на тот, каким старики в парке подзывают голубей.
Мойра вскрикнула и пригнулась. Ей показалось, что на нее обрушилась волна чистой энергии. Кости в запястье хрустнули, и ужасная боль пронизала всю руку.