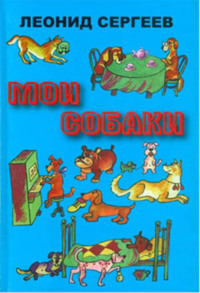Полная версия
Счастливые и несчастные (сборник)
– Вообще-то бесполезно что-либо доказывать. У нас всех уже сложившиеся взгляды, убеждения, и вряд ли их изменишь, верно? Спор подрывает дружбу…
В тот вечер мы с ним перешли на «ты» и, я был уверен, расстались друзьями. В следующую встречу я чуть ли не бросился его обнимать, но он вдруг холодно протянул руку:
– Здравствуйте!
Он всех держал на дистанции и даже с оркестрантами говорил на «вы». И я ни разу не слышал, чтобы он хорошо отозвался о ком-нибудь из музыкантов:
– Андрей? Талантливый, но дурак. Игра без волшебства тяжело воспринимается… Владимир? Мертвый инструмент. Уровень ученика школы. Его ходы безнадежно заигранные… Алексей? Бедноватая техника.
В этих резких оценках сквозила повышенная требовательность; Герман сравнивал приятелей с лучшими исполнителями в мире. Я это понял позднее, а окончательно убедился, когда заикнулся о какой-то новой группе, работающей под битлов.
– Это не имеет никакого отношения к джазу. Эти сопляки лишены всего, – сказал он и постучал согнутым пальцем по виску.
Вокруг каждого талантливого человека кружат околотворческие люди; они, точно пиявки, сосут соки из своего любимца, обедняют его талант, затягивают в бессмысленное времяпрепровождение. Не каждый имеет самодисциплину, способность отказаться от жизненных соблазнов. Я так ее никогда не имел и ухлопал полжизни на всякие приключения. Именно поэтому меня всегда восхищали цельные натуры вроде Николая Громина, одного из лучших гитаристов, которых вообще знал джаз. Пожалуй, в то время его игра меня восхищала больше всего. В ней было столько изобретательности! Какая-то неистовая, ослепительная, искрометная фантазия! И сдержанность. Ведь именно в ней все дело. А его виртуозная техника! Он мог все. Полноватый, губастый, с умными, светлыми глазами и двумя-тремя волосками-нитками на голове – войдет в раж, губы отвиснут, щеки трясутся, весь красный и раздутый, точно накачан воздухом, – и каждый пассаж, каждый аккорд на нерве. Он держал зал в напряжении, вкладывал в игру всю душу, отдавал себя полностью, без остатка; отыграет – сразу худеет, точно из него выпустили воздух, и, вдрызг опустошенный, уходит в сторону; ему рукоплещут, а он еще минуту-другую приходит в себя, потом каким-то чудесным образом смущенно наклонит голову и шаркнет ногой по полу.
Он всегда внимательно, с профессиональным уважением, слушал игру товарищей – линию саксофона или трубы, и я видел, как теплел его взгляд, светлело лицо.
Часто Николай играл в паре с Алексеем Кузнецовым, тоже первоклассным гитаристом – да что там первоклассным! Он играл так, как всего несколько человек в мире! И что немаловажно, никогда не выпячивался и со всеми держался с необыкновенной простотой. До знакомства с ним я думал, что все большие таланты – сложные люди с тяжелыми характерами. Оказалось, не все.
Так вот, когда Николай играл с Алексеем, тогда стоял такой упругий свинг, что весь зал лихорадило. Демонстрируя красивые ходы, Николай обыгрывал тему, Алексей аккордами создавал фон, а барабанщик Валерий Буланов палочками расцвечивал мелодию. Их трио прямо-таки дышало как единый организм. Отыграв тему, они по очереди исполняли соло, а затем наступало самое интересное: они играли вместе, по квадрату каждый, один начинает варьировать мелодию, второй продолжает. Доли секунды оставались для воплощения мысли в звуке, но что значит прекрасные исполнители! – они подхватывали фразу на лету и еще больше закручивали импровизацию. Новая музыка рождалась прямо на глазах, накал достигал предела, все вскакивали, нетерпеливо вскрикивали, дрожали от возбуждения, а музыканты вдруг неожиданно обрывали звуки и… сразу – тему, только намного горячей, чем в первый раз.
Николай работал экономистом в институте, а по вечерам играл в кафе; играл, повторюсь, вдохновенно, с кипучей самоотверженностью. О большинстве музыкантов он отзывался с похвалой, но в глаза мог и крепко отругать. А со слушательницами был предельно учтив. Как-то одна юная особа спросила его:
– Что нужно, чтобы научиться хорошо играть?
– Совсем немного, – ответил Николай с нежностью в голосе. – Любить инструмент и гонять пассажи по пять часов в день. И, как говорил Моцарт, «в нужное время нажимать на нужные клавиши». Вот и все.
Я был знаком почти со всеми джазовыми музыкантами, и надо же! – с лучшим, самым известным, бесспорно незаурядной личностью мне познакомиться так и не довелось, хотя я много слышал о нем и он вызывал во мне благоговейное почтение. Он напоминал Оскара Питерсона: и внешне – так же искрился весельем; и манерой исполнения – вихревыми каскадами пассажей. Его звали Борис Рычков. Трудно было поверить, что этот грузный, вечно улыбающийся толстяк может так легко играть. Его лапищи не касались инструмента – это было неуловимое прикосновение, порханье рук над клавишами! А зал наполнялся водопадом звуков.
Он всегда играл с улыбкой, музыка доставляла ему радость. Временами, импровизируя на стандартную тему, он даже дурачился: вставлял смешные фразы из других произведений, что, понятно, вызывало восторг и смех. Его композиции были неожиданными, но всегда точными.
Я уже сказал, что Рычков удивительно легко играл, но еще легче он вскакивал со стула, закончив пьесу, взволнованно оглядывал зал, как-то красиво и просто кланялся, держась за спинку стула, и быстро убегал со сцены.
Он начинал одним из первых, во времена, когда еще джаз считался «музыкой толстых», «веянием загнивающего Запада», когда нелегально привозились пластинки и их переписывали на «ребрах» – рентгеновских снимках, когда музыканты собирались в подвалах, постоянно опасаясь, что на них донесут. Но ко времени бума шестидесятых годов он уже имел свой ансамбль, с которым гастролировал от Москонцерта.
Солисткой их трио была жена Бориса – Гюли. Вот женщина! И создает же такое природа! Блестящая певица и красавица: точеная фигура, огромные глазищи с «самыми длинными в столице ресницами» и черные волосы, свободно спадающие на плечи. Понятно, мерилом всего является талант, но и внешность определяет многое, а вместе с обаянием это вообще значительная сила – перед Гюли открывались все двери.
Она появлялась на сцене, застенчиво опустив голову, обходила инструмент, робкая, точно ночной мотылек, кружащий у лампы, и начинала издалека: после вступительных аккордов, с потухшими глазами, еле слышно вела тему низким, хрипловатым голосом; но постепенно раскачивалась, ее глаза разгорались, а из хрупкого тела уже вырывался такой мощный голос, что по спине бежали мурашки.
Борис с женой и вне сцены смотрелись прекрасно: он – тучный здоровяк, а она – маленькая, изящная – такая контрастность как нельзя лучше подчеркивала индивидуальность каждого.
В «Аэлите» я познакомился с архитектором и саксофонистом подвижником джаза Алексеем Козловым, который неустанно экспериментировал: создавал различные группы, играл то джаз-рок, то фольклор Якутии, то вводил в ансамбли струнные инструменты, то синтезаторы, без конца искал «тембровые палитры», «новую фактуру». На мой дилетантский взгляд, в результате этой мешанины он так и не выработал свой стиль и слишком далеко ушел от классического джаза. На взгляд профессионалов, изощренной элитной публики, был новатором, его музыкальный язык «опережал время». Несколько лет я пытался дорасти до понимания этих заковыристых новшеств, но так и не дорос и остался приверженцем традиционного джаза.
С Козловым внешне мы были на редкость похожи, до тех пор пока он не отрастил длинные волосы и бороду. Наше сходство помогало мне проходить в кафе во время закрытых вечеров: парни дружинники, увидев меня, открывали дверь. Правда, иногда кто-нибудь из них бросал:
– Ты что, сегодня без инструмента?
Собственно, в другие кафе я проходил как певец или басист. Кем только не был! А что делать? Хотелось послушать музыку.
«Аэлита» представляла собой большое помещение на первом этаже жилого дома: сцена, раздевалка, стойка, пять-шесть столов и две официантки – вот и все кафе. Сцена была крохотной, на ней еле умещался квартет; в углу стояло старое пианино. У стойки висел устрашающий список коктейлей: «Любовь с первого взгляда», «Гремучая смесь», «Солнечный удар», «Ядерный взрыв», но буфетчица тетя Маша выдавала только кофе и стакан сухого вина. (Коктейли продавались, когда зал снимала какая-нибудь организация). Зато на столах были чистые скатерти и девчонки официантки еще не научились грубить, а главное, можно было весь вечер просидеть за чашкой кофе – роскошь, не позволительная ни в одном заведении общепита.
Кстати, когда кафе арендовала организация, музыкантам приходилось играть разную заезженную мишуру, но ради других свободных дней стоило и помучиться.
Среди посетителей кафе было немало истинных ценителей джазовой музыки. Помню слепого паренька Володю, который ходил по улицам без палки, а слушая джаз, подпевал и отбивал пальцами по столу ритмический рисунок. Володя закончил иняз, работал переводчиком и одновременно собирал радиосхемы.
Помню Люсю, худую нервную фанатку джаза, которая носила дешевые платья. Она печатала статьи о джазе в журнале «Юность» и в брошюрах общества «Знание», являлась членом Европейской ассоциации джазовых критиков. Острая, восторженная и умная, она была неудачницей в личной жизни. Парни видели в ней зануду, «мозговую женщину» – «живет не сердцем, а головой, а в башке у нее электронная машина, все и всех вычисляет». А она поджимала губы:
– Горе от ума – единственное настоящее горе женщины.
Люся появлялась в кафе с подругой Валей, смуглой, цыганского вида молодой женщиной. Эта Валя всегда сидела молча, не привлекая внимания, но однажды вышла на сцену и так спела «Мисти» Гарнера, как ни до нее, ни после в Москве не пел никто! Ее не просто горячо приняли – ей устроили овацию, даже музыканты отбили ладони, а пианист Борис Рычков подошел и расцеловал ее. После этого Валю долго не отпускали со сцены, и она пела «Колыбельную птичьих островов» Ширинга, невероятно красивые вещи Джорджа Гершвина и напряженные – Кола Портера, кое-что из репертуара Рей-Кониффского ансамбля и даже «Чучу». Она подражала великой Элле Фитцджеральд, но кто не подражает в начале пути? Важно, кому подражать.
Что меня еще поразило в Вале, так это ее раскованная манера держаться. На фоне наших деревянных эстрадных певиц она выглядела прямо-таки западной звездой. Тайну мне открыл гитарист Андрей Гарин.
– Внешняя свобода идет от внутренней, – сказал он. – Мы жили под страхом, и наши души искорежены, а она полуцыганка, привыкла жить сама по себе, без всяких ограничений, раскрепощенно…
В то время Валя перебивалась случайными заработками, но вскоре прямо-таки взлетела на пьедестал – ее пригласили в цыганское трио «Ромэн», она сказочно разбогатела, стала ходить увешанная бриллиантами, но джаз не забывала и пела на всех фестивалях.
«Аэлиту» посещал мой старый приятель, фотограф журнала «Советский Союз» Виктор Резников. Он всегда выглядел отлично: в модном костюме, в квадратных очках, с камерой и кофром через плечо; на его куртке красовался значок «Пресса». Виктор неутомимо щелкал музыкантов и колоритных типов, добросовестно запечатлевал для потомков то неповторимое время. Виктору было некогда знакомиться с девушками, поэтому он считал, что мои приятельницы, с которыми я время от времени приходил в кафе, являются и его возлюбленными. Оттесняя меня в сторону, он запросто обнимал их, целовал, записывал их телефоны, да еще фотографировал, то есть получал двойное удовольствие. Частенько он и провожал моих подружек, из-за чего у меня с ним возникали трения, но Виктор все сводил к шутке:
– Девушки в кафе совершенно необходимы, – говорил Виктор. – Они поддерживают уровень застолья и завода на сцене.
Завсегдатаем «Аэлиты» был инженер Алексей Баташев, крупный знаток, «профессор» джаза, ведущая фигура в среде джазистов – именно он представлял музыкантов на выступлениях, а позднее написал книгу «Советский джаз» и пробил ее в издательстве «Музыка».
В «Аэлите» царила домашняя атмосфера, там можно было пообщаться с единомышленниками, узнать новости богемной жизни, но туда заходили и случайные люди, которые считали кафе забегаловкой, где «тунеядцы» попросту убивали время. Случалось, эти неизвестно откуда взявшиеся типы свербили:
– И что за чертовню играют?! Давай что-нибудь наше, русское! «Журавли», что ли! И за что им деньги платят?! Их бы всех в шахты да на лесоповал, этих выдувальщиков!
Или о выставке художников:
– Ну и мазня! Я бы и то лучше намалевал.
Эти воинствующие невежды освистывали читающих стихи.
– Бодяга! – кричали. – Народу это не надо! Интеллигентов много развелось! Все шибко грамотные стали!
– И откуда эта ненависть к интеллигенции? – вздыхала журналистка Люся. – Без интеллигенции заглохнет духовная жизнь, произойдет деградация общества.
– И вообще, почему искусство должно быть понятно народу? – вторила ей Валя. – Народ должен подниматься до его понимания.
Я слушал подруг и остро переживал незащищенность творческой личности в нашей стране.
Часто меж столиков носился вертлявый парень в яркой рубахе. Он был начисто лишен слуха – не пел, а каркал, но постоянно всех проверял: брякнется за стол, прокаркает музыкальную фразу и спрашивает с едкой усмешкой:
– Что за вещь, знаешь?
Забредали в кафе и бездомные парочки, которые только на время отстранялись друг от друга и молчаливо застывали в оцепенелой любовной муке; музыку они не слушали и вообще ничего вокруг не замечали.
Однажды в кафе гусарил парень с Кавказа. Он сидел с холодной блондинкой, держал ее за руки и без передышки с жаром что-то тараторил. Белое, точно гипсовое, лицо девицы даже не розовело, она сидела непроницаемая, в унылой задумчивости. Два раза парень подбегал к оркестрантам и протягивал десятку:
– Ребята, дорогие! Можете не играть пять минут? С девушкой надо поговорить!
Ближе к закрытию он подошел весь измочаленный, взмокший, достал из кармана двадцать пять рублей и прохрипел:
– Дорогие мои, можете не играть совсем?! У меня вопрос жизни решается.
Появлялся в кафе и вечный жених Коля – фитиль с потасканным лицом; он производил впечатление человека, который только вылез из постели или вот-вот в нее влезет. В институте, где он работал инженером, был какой-то блуждающий график, полусвободное посещение – отличные условия для безделья. С откровенным цинизмом Коля говорил:
– Иду на работу, если по пути не встречу симпатичную девицу, работаю.
Коле было тяжеловато, ведь на улицах немало симпатичных представительниц женского пола и ему все время приходилось выдумывать новые способы обольщения. Как он не спятил с ума, не представляю. С неистребимым постоянством он всегда был с девицами, и всегда с разными. Я ни разу не видел его с одной и той же. Его подружки были высокие и маленькие, худые и полные, блондинки и брюнетки, но все красивые. Что они в нем находили, я никогда не понимал – за свое неприглядное поведение, жгучий интерес к любовным интригам и разговоры, в которых сквозила сексуальная тема, он слыл полным болваном. Да, собственно, у него все было написано на лице. Однажды он признался, что мечтает купить машину, «чтоб заняться автосексом».
– Секс ведь та же любовь, – спокойно, со знанием дела сообщил он. – Только без озаренья, без вдохновенья.
Я относился к этому Коле с горьким презрением и, сравнивая себя с ним, видел неоспоримое собственное превосходство, но его девицы почему-то этого не видели, и, естественно, я считал их дурехами.
Коля всех девчонок называл «кисами», чтобы не затруднять себя запоминанием имен, по каждому поводу тянул:
– О-о, это сближает!
Он выдавал себя то за художника и говорил девушке, что ему непременно надо написать ее портрет, то за режиссера и предлагал сниматься в кино. Часто Коля упрашивал какого-нибудь известного музыканта:
– Послушай, старина, ты не мог бы подойти к нашему столику и сказать: «Привет, Коля!»?
Вот так мелко и дешево он и охмурял красавиц. А может, и не охмурял, ведь я говорю, не видел его с одной и той же дважды. Скорее всего он просто был фокусником, но не иллюзионистом, то есть имел набор приемов для соблазнения, но не создавал экспозиции, атмосферы.
На улице Горького в кафе «Молодежное» играл квартет, в котором тон задавал лучший ударник Москвы, основательно чувствующий джаз Валерий Буланов. Серьезный, всегда гладко выбритый, в наутюженном костюме, он играл мастерски, без видимого напряжения, с выражением легкой иронии на лице. В тот вечер, когда нас познакомили, он потащил меня к себе домой и по дороге рассказал тьму анекдотов. Его мать встретила нас в штыки – отчитала сына, что забросил занятия в институте (Валерий должен был получить диплом инженера), но все же подала рассыпчатой картошки и чай. Всю ночь на кухне мы слушали пластинки; под утро Валерий выключил проигрыватель и подмигнул мне:
– Из двух талантливых людей успеха добьется тот, кто больше работает.
Он сел за ударную установку и повторил все удары Арта Блэйки. Его барабаны стояли перед зеркалом, он отрабатывал осанку и не просто играл, а играл красиво.
– Не из щегольства, – пояснил мне. – Красивые вещи надо и исполнять красиво, артистично.
В разгар его игры появились соседи снизу и пригрозили милицией. Пришлось закруглиться.
– Я оптимист и верю в то, что джаз завоюет нашу публику, – сказал Валерий, провожая меня. – Уверен, джазу дадут дорогу. Я говорю нашим ребятам «повязочникам» в совете кафе: «Джаз – народная музыка». А они мне: «Народная-то народная, но негритянская». Ну и что?! У нас есть и свои отличные композиторы и исполнители. И уже можно серьезно говорить о нашем, русском джазе.
Он предугадал события. Буквально через год скрепя сердце Министерство культуры выпустило один из наших ансамблей на фестиваль в Варшаву. Выпустило только для того, чтобы мы не прослыли безнадежно дремучими. И вот на том фестивале наши музыканты стали лауреатами. Им жал руки сам Луис Канновер! В числе лауреатов был и Валерий. Слава о его виртуозности, прогремев за рубежом, докатилась и до нашей страны… Обычно люди меняются от успеха и славы; Валерий, и это я могу засвидетельствовать, поскольку знал его не один год, не изменился – с друзьями оставался приветлив и открыт, с чиновниками из Союза композиторов – холоден и непримирим. Вот только с каждым годом он все больше выпивал, но и это делал красиво.
…Спустя много лет, когда на эстраде уже вовсю процветали низкопробные шлягеры и вообще шло разложение общества, я случайно забрел в один захудалый клуб и вдруг увидел Валерия на сцене. Он играл в каком-то разношерстном ансамбле, пополневший, поседевший, с одутловатым лицом, но по-прежнему элегантный. «Узнает или нет?» – подумалось, а Валерий доиграл вещь, положил палочки на барабан, спрыгнул со сцены, подошел ко мне, обнял и потащил в буфет «отметить встречу».
– Играю, когда приглашают, – устало сказал он у стойки. – Только теперь джаз никому не нужен. Посмотри в зал – молодежи нет, все старые лица. Получается, что мы прожили зря. Заниматься у нас джазом – изначально встать на гибельный путь. Поэтому мы все и проиграли… Работать свободно можно только на открытом пространстве, чтобы был обзор… А мы жили в замкнутом культурном пространстве, варились в собственном соку и не имели выхода на широкую публику.
– Неправда, – возразил я. – Ты все забыл. Вспомни фестивали в МИИТ, в Ленинграде, в Таллинне… И пусть вас было немного, но вы не дали прерваться традициям, которые начинали Варламов, Утесов, Лундстрем. Вы как раз то связующее звено, без которого все заглохло бы и наступил полный маразм.
– А-a, кому это теперь нужно! Вон вокруг что творится! И что интересует современную молодежь?!
Я смотрел на опухшее лицо Валерия и, колеблясь между надеждой на будущее и горечью от настоящего, думал: «Досталось же нашему поколению. Скольких искалечила система, сколько не состоялось талантов, сколько озлобилось, сломалось».
Через год Валерий умер от сердечного приступа. За его гробом шло всего пять человек, но все – выдающиеся музыканты.
На басу в «Молодежном» играл Андрей Егоров, курчавый парень с темными кругами под глазами и низким голосом. Вот уж кто умел создавать накал средствами ритмики. Вроде бы флегматик и струны перебирает слишком изящно, а свингует – хоть куда! Ради джаза Андрей бросил занятия в университете.
Как-то рано утром я забрел в кафе перекусить. За столами никого не было, вдруг слышу откуда-то глухие, упругие звуки. Заглянул в закуток, а за сценой Андрей репетирует, в поте лица гоняет гаммы по нотам.
– Хорошо, что заглянул, – обрадовался он и облегченно вздохнул. – Пойдем рванем по чашке кофе, устал как собака. Всю ночь репетирую.
Когда мы выпили кофе, к нам подсел какой-то паренек и, пожирая Андрея глазами, спросил, как надо играть. Андрей улыбнулся, показал на голову, потом на сердце:
– Закрой глаза, представь перед собой любимую девушку и играй все, что ты хотел бы ей сказать.
Руководитель ансамбля Владимир Сермакашев выглядел угрюмым, мрачноватым, в неряшливой, неопрятной одежде. Он медленно брал саксофон, неторопливыми движениями вытирал мундштук, перебирал клапаны инструмента, вразвалку, как бы нехотя, выходил на сцену и… выжимал из инструмента такие звуки, какие мог создать только очень жизнелюбивый, эмоциональный человек.
Странное дело, чем меньше Владимир говорил о себе, тем больше хотелось о нем знать. Я так просто сгорал от любопытства. Говорили, он закончил физфак и музыкальное училище по классу фортепиано – в самом деле, когда у него болели легкие и он не играл на саксофоне, все оценили его как пианиста.
Он женился на официантке из того же кафе, некрасивой, вульгарной женщине, которая была старше его и имела ребенка. Приятели отговаривали Владимира от этого брака, но он спокойно и решительно сказал:
– Ничего вы не понимаете.
А я думал: «Надо же, и для самой невзрачной женщины находится мужчина, который видит в ней красавицу».
На фортепиано играл Вагиф Садыхов, у которого было еще большее несоответствие внешности и внутреннего мира. Маленький, изящный интеллигент в очках за инструментом обнаруживал такую двужилы-юсть, что здоровяки вроде Бориса Рычкова только качали головой. О филигранной технике, хрустальных аккордах Вагифа говорить не приходилось – он заканчивал консерваторию.
– Закончу «консервы», но как сделать в Москве прописку, не представляю, – говорил он. – Фиктивный брак устраивать противно, потом буду себя презирать.
Ему выпал счастливый билет: он получил диплом с отличием и вскоре познакомился с красивой блондинкой; она каждый вечер приходила в кафе и предельно вдумчиво слушала музыку, но, прежде чем с ней заговорить, Вагиф долго трусил. Мужчины часто боятся красавиц, думают, что у них туча поклонников, что они привыкли к победам и грузовикам с цветами; считают красавиц богинями с таинственной жизнью, которой не смогут соответствовать. Наверно, бывает и так, но я знал одну красивую и неглупую женщину, которая страдала от одиночества.
– До чего ж мужчины трусливы, – как-то сказала она мне. – Еду в метро, стоит один, мой тип, прямо пожирает меня глазами. «Ну подойди», – почти шепчу ему, а он пятится.
Однажды Вагиф все же преодолел трусость и заговорил с блондинкой.
– У меня характер не подарочек, – заявила она, – но я безумно люблю музыку.
Через неделю Вагиф сделал ей предложение, и они прямо в кафе устроили музыкальную свадьбу.
Оркестр Сермакашева считался отличным, сыгранным ансамблем, в котором каждый был первоклассным музыкантом, но самым веселым слыл Валерий Панамарев – рыжеволосый, веснушчатый крепыш и самый бедный из всех музыкантов. Он долго копил деньги на собственный хороший инструмент, кое-как перебивался с женой и ребенком, подрабатывал на инструментах приятелей и все же купил себе хорошую трубу. Вначале он играл слишком громко – в его игре не было сдержанности, которая, как правило, говорит о глубоком мышлении. Во всяком случае, я всегда слышал разницу в исполнении трубача Андрея Товмосяна и его, Валерия. Он играл грубее.
– Кочумай! Играй с сурдиной! – то и дело ворчал Сермакашев. – Всех забиваешь своей дудкой!
Частенько Валерий играл на барабанах и тогда всех оглушал грохотом. Как-то я предложил ему поиграть на басу, чтобы получилось потише. Он засмеялся:
– А на фига тише! Лабать надо так, чтоб будоражить!
Как все уверенные в себе люди, он был великодушен и умел подтрунивать над собой. Он ходил в мятых брюках, ситцевой ковбойке, стоптанных ботинках, но всегда сияющий, приветливый. Только однажды я увидел его грустным – после того как мы прослушали пластинку Клиффорда Брауна, он выдохнул с потускневшим взглядом:
– Так я не смогу сыграть никогда.
В «Молодежном» тоже были свои постоянные посетители и среди них – группа глухонемых; говорили, они любят «слушать музыку». Что правда, то правда: глухонемые сидели в зале не шелохнувшись и с такой серьезностью таращились на исполнителей, что казалось, они чувствуют музыку кожей.