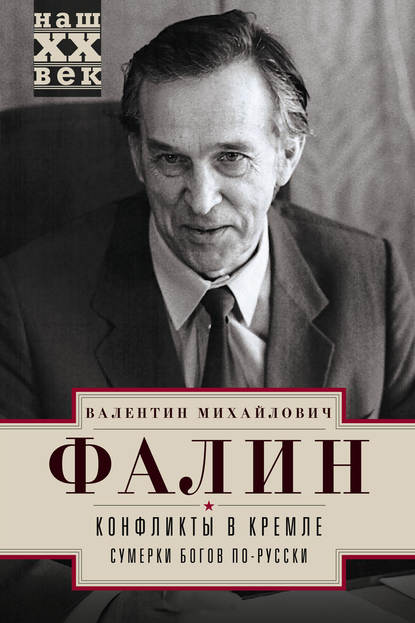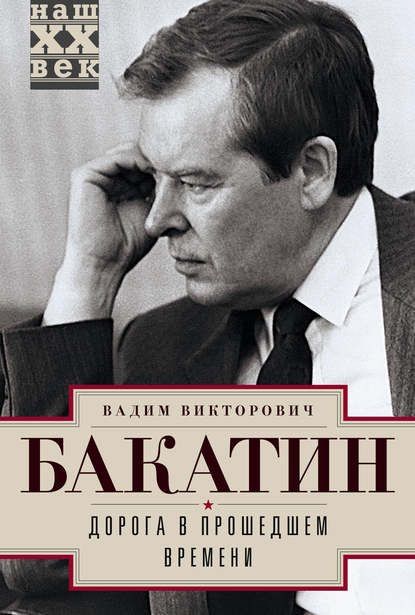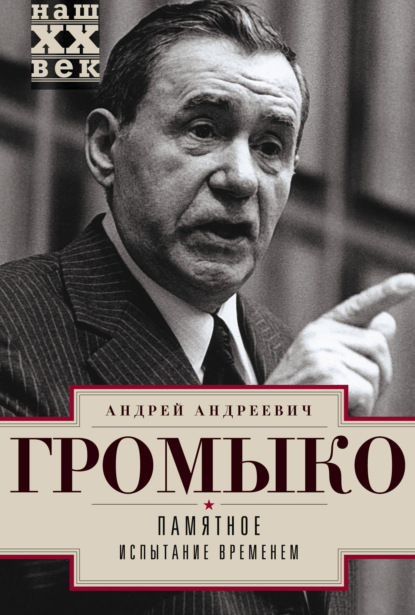Реальность и мечта
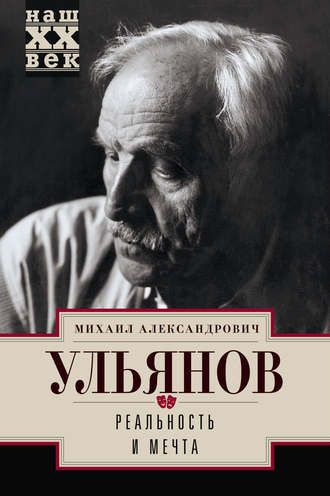
Полная версия
Реальность и мечта
Жанр: культура и искусствобиографии и мемуарыкинематограф / театрбиографии артистовавтобиографическая прозасоветское кинознаменитые актерывоспоминания и мемуары
Язык: Русский
Год издания: 2018
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу