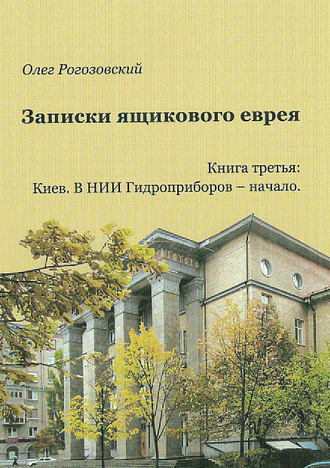
Полная версия
Записки ящикового еврея. Книга третья. Киев. В ящике
Итак, на своем 26-м дне рождения мне пришлось извиниться перед Элей и передать право ухаживания Вите Лазебному, который хотел этого больше остальных.
Вовремя, так как к паре Эли и Вити подплыл толстый и кудрявый скрипач и стал играть для нее соло. Я бы в этой ситуации не знал, что делать (казалось, нужно было одарить скрипача особыми чаевыми), но Витя просто шуганул его, и он отплыл к другой, более «перспективной» паре.
В Сухуми еще сохранялись старые обычаи. На станцию приехала на два дня подруга Эли из 11-го отдела, чтобы получить гидрологические разрезы прежних лет в районе станции. Единственный раз мы прошлись с ними днем по центральной улице. Они несколько отстали от нас, чтобы обсудить свои «женские секреты». Вдруг мы услышали какие-то возмущенные возгласы и басовые ноты кавказского говора. Обернувшись, мы увидели, что девушек растаскивают в разные стороны, а рядом припаркована «Волга» с открытыми дверями. Хорошо, что девушки отстали недалеко, и мы успели на помощь. Драки не было, грузины сказали, что женщины одни у них не ходят. (В фильме Антониони «Не промахнись Ассунта!» с Моникой Витти сцена сцепившихся по-трое женщин, выходящих из дому в соседнюю аптеку за аспирином, тоже соответствовала местному колориту).
В Сухуми еще оставались греки: часовщики и продавцы кофе, жарившие зерна и варившие чудесный кофе в джезвах, погружаемых в горячий песок.
Через некоторое время греки исчезли, и мне повезло, когда через много лет я нашел еще последнего греческого часовщика на набережной. Он посмотрел на мои электронные часы (одни из первых) и сказал, что во влажном климате они работать не будут. Когда я показал, что на циферблате написано о возможности погружения на глубину 30 м, он сказал, что я неправильно понял – на самом деле это значит не подходить к морю ближе 30-ти метров.
Вообще Абхазия представляла собой типичную кавказскую автономную республику. Практически на всех руководящих постах (включая директора «атомного» института в Агудзерах) находились грузины. Но на титульном посту первого секретаря обкома всегда находился абхаз. Многое об Абхазии можно узнать из чудесных рассказов и повестей Фазиля Искандера, но «Созвездие Козлотура» появилось позже.
Письменность на основе кириллицы появились в Абхазии в 1920-х годах. Многие названия начинались на букву а (ареспублика, авокзал, акафе и т. д.).
При объявленной Дружбе народов в Абхазии дружно (под присмотром партии и КГБ) жили представители разных национальностей (греков выселили). В армянской школе (семилетке) дети учили пять языков: армянский, абхазский, грузинский, русский, ну и какой-нибудь английский.
Несмотря на теплое море, фрукты и природу, русские приживались в Сухуми не просто.
Недалеко от гостиницы «Тбилиси» показывали нечто среднее между коттеджем и виллой, принадлежавшей недавнему выпускнику ленинградского Первого медицинского Сергею. Он был хирургом и хотел набраться профессионального опыта. Но ему, кроме аппендицитов, ничего самостоятельно оперировать не давали. Как-то по скорой в больницу попал один из местных начальников, да еще с перитонитом. Медлить было нельзя, и операцию провел ленинградец. Она прошла успешно, в отличие от такой же операции у друга оперируемого, которую проводил «правильный» хирург. По требованию начальства теперь многих из них оперировал Сергей. Все бы хорошо, одно не устраивало местных врачей: он не брал за операции денег. Ему объяснили. Он не понял. Его отстранили от операций и сказали – будешь жаловаться – до конца срока отработки (он был молодым специалистом) на свободе не доживешь. Он понял, ему разрешали оперировать все более сложные случаи, регулируя оплату и его вознаграждения. Скоро у него появилась «Волга», потом коттедж, потом «шале» в горах. Потом он запил (или сделал вид, что запил) и через несколько лет уехал.
Еще одна запоминающаяся вылазка организовалась по моей наводке. Чей был день рождения, не помню. В Эшерах, деревушке неподалеку от Сухуми, к ожидаемому приезду Эйзенхаура в 1960 году был построен ресторан «Ущелье». Между двух нависающих над ущельем и почти смыкающихся вверху скал протекал ручей. По дну ущелья устроили террасы для столиков, в скалах выдолбили гроты для полуоткрытых «кабинетов», ручей одели в гранит, сделали запруды с плавающей в них форелью. Эйзенхауэра в СССР не пустили – он обидел Хрущева, снова разрешив полеты У-2. Пауэрса сбили над Уралом 1 мая 1960 года (интересные подробности об этом в книге 2, стр. 278). Визит был назначен на осень, но Эйзенхауэр и улучшающиеся отношения с Америкой перестали интересовать Хрущева. Он, по-видимому, решил, что нового, в любом случае молодого президента (Никсона или Кеннеди) он сумеет перехитрить (см. кн. 2, стр. 190).
Возвращаясь в «Ущелье» вспоминаю, как мы выбирали форелей в запруде, и пили вино, пока их жарили. В конце мая в Эшерах было жарко, но здесь, в скалах, прохладно.
На выходе из ресторана помещался фрагмент фольклорной деревни с плетеными заборами и коптившимися на них сулугуни и бараниной.
Копченый сулугуни стоил непомерно дорого. Модерная гостиница с террасами в сторону долины предназначалась для высоких гостей, туристов туда не пускали.
В Сухуми вернулись к вечеру – транспорт в Эшеры практически не ходил, а вечером можно было нарваться на излишне гостеприимных хозяев частных машин. Кто-то подбросил нас до маяка, возле которого находилась Станция. В разнообразных частных домах вокруг маяка ютились сотрудники Станции. Где-то среди них обретался и киевлянин Феликс Соляник, но мы его тогда не знали. На единственной культурной точке поселка при маяке – кинотеатре «Маяк» – висела реклама пародийного вестерна «Лимонадный Джо». На ней крупным шрифтом выделялась надпись: «Хочешь драться как в кино, пей грузинское вино!». Разнообразием грузинских вин Сухуми не блистал, но абхазские (качеством пониже) присутствовали. В список 29 номерных грузинских вин (книга 2, стр. 142) входили два абхазских: «Чхавери» и «Усахелаури».

Кругом разруха, но маяк 1864 года работает и сейчас
Чхавери можно было в нашем ресторане пару раз получить, а насчет «Усахелаури» я поспорил с официантом-грузином, с публичной фиксацией спора свидетелями, что оно красное. (Вся обслуга в ресторане была грузинской, абхазы в нее не стремились). На ящик его или «Чхавери». Он проспорил, но достать «Усахелаури» не мог – весь виноград был уничтожен филоксерой. Но «Чхавери» он тоже не поставил.
Легенды о всеобщем кавказском благородстве подверглись в Сухуми испытаниям. Однажды в бане (горячей воды в гостинице не было, а в номере не было и душа – зато был балкон) услышал разговор двух водил. Один был, судя по акценту, армянином, второй абхазом. Старший говорил младшему: «Как это – денег нэт? Сейчас уголь для отопления котельных вожу – одну машину вместо детского сада хорошему человэку привез – вот и деньги!». «Дык дети же замерзнут» – недоумевал второй. «Савсем неумный – кто ж детей без тепла оставит – еще машину дадут!».
Однажды мы с Эдиком Роговским (тогда он был у нас радиомонтажником) договорились с Глазьевым, что уйдем пораньше из Павильона на отборочный матч чемпионата мира по футболу. (Обычно сидели допоздна, пока не темнело).

Лазебный, Коломиец, Роговский, автор у развалин на Иверской горе
«Что, в Сухуми?» – удивился Глазьев. А мы удивились его наивности – в Сухуми не было ни приличной команды, ни, тем более, приличного стадиона. Матч был в Москве, с Грецией. Проверили телевизор в гостинице. Он не работал. Эдик сказал: нет проблем, починим. Но старшая из наших коридорных – седая грузинка с прямой спиной и княжеским профилем, сказала, что она разрешить ремонт не может – этот вопрос может решить только директор. Директор не появлялся несколько дней, и коридорная сказала – меня уволят, если что-нибудь выйдет не так, приходите лучше ко мне домой.
Глазьев, который не проявлял никакого интереса к футболу, в гости к грузинке тоже захотел пойти. Купили цветы, Глазьев настаивал на бутылке шампанского и из-за этого опоздали.
Семья (наша «княжна», ее сын, его жена и двое прелестных детей) ужинали. Не так, как у нас, на кухне, а в большой комнате за хорошо накрытым столом. Без вина. Наш приход нарушил семейную идиллию. Детей увели и докармливали на кухне. Жена тут же ушла из-за стола и стала нас обслуживать. Мать некоторое время посидела с нами, потом ушла к внукам. Шампанское мы, конечно, выпили, но хозяин вынул бутылку «Енисели». Нас стали угощать, приговаривая, что отказываться неудобно. Уйти было невозможно. Я все-таки попросил включить телевизор, и мы вполглаза следили за развитием игры. Начались тосты хозяина и ответные тосты Глазьева. Присевшую было жену, муж довольно бесцеремонно послал за какими-то припасами. Дружеская трапеза была мужским делом. Футбольную передачу, звук которой уменьшили, а картинку на маленьком экране не настраивали, смотреть было невозможно. Сын вынул еще какую-то бутылку и, несмотря на наши протесты, заставил нас выпить. Я надеялся, что Глазьев не станет восхищаться кинжалами, висящими на персидском ковре на стене – вдруг начнут дарить? Обошлось.
Мы с Эдиком не знали, куда деваться от стыда. На следующий день извинялись перед коридорной. Спросили как же так, мы нарушили покой семьи, муж грубовато повел себя по отношению к жене и т. д. Она нас успокоила – он неделю будет просить у нее прощения, вести себя с ней, как с невестой, но это без свидетелей. Но не показать себя джигитом и хозяином в доме при гостях грузинский мужчина не может. Почему же Вы не сказали, что живете с семьей сына – мы бы поехали на Маяк. Она ответила, что ей было стыдно, что она не может проявить положенное гостеприимство – предоставить в гостинице телевизор или разрешить починить его. И выбрала из двух зол меньшее – пригласить в недавно еще ее дом, в котором после смерти мужа хозяином стал сын.
Вылазка в Новый Афон особенного впечатления не произвела. Монастырь был закрыт, как и его главный полуразрушенный собор. На его территории размещалась (в основном в палатках) туристская база. Мы поднялись на Иверскую гору в поисках остатков разрушенной Анакопеи, но нашли только остатки часовни Иконы Иверской Божьей Матери.
Последнее, что запомнилось из сухумской экспедиции, был «подвиг» Глазьева по добыванию движущейся цели для эксперимента по точному пеленгованию. Корабли станции («Зея» и «Стрела») уже были для нас недоступны. Глазьева свели с местными «колхозными» рыбаками, у которых был малый сейнер.

Вместо иконы была надпись
На встречу Глазьев собирался тщательно: надел галстук и процедил остатки спирта со следами ржавчины из последней нашей канистры со спиртом. Рыбаки приняли его дружески, спирт проигнорировали – пили замечательную чачу из винограда «Изабелла». Сам факт общения столичного ученого с простыми парнями с сейнера и его просьба пройти пару раз мимо измерительного павильона станции был для них поводом для самоуважения.
Появился Глазьев под утро, без галстука и держась за стенку. Утром он сказал, что пил со многими – со строителями, летчиками, военными моряками, но здесь было что-то из ряда вон выходящее. Особенно, если учитывать, что после пьянки, выведший его из строя, рыбаки в пять утра вышли в море на костоломно тяжелую и опасную работу.
Через день эксперименты с пеленгованием с помощью рыбаков были завершены, а еще через день они взяли его с собой на утренний лов…
На мой взгляд, эксперимент положительного результата не достиг, но Глазьев думал по-другому. Кроме того, имелись сроки выполнения других работ, о которых я не знал. Мы срочно уезжали в Киев. Все, как «белые люди», улетали на самолете. Я, как вооруженный охранник, сопровождал секретный груз на машине. Что-то мы отправили по железной дороге, что-то оставили на станции. Незадолго до нашего отъезда нас попросили оставить бухту стального троса, намотанного на двухметровую катушку. Причем не руководство, а военизированная охрана, состоящая в основном из местных джигитов. Трос был использован для проведения экспериментов, в частности постановки на дне излучателей. Но основная его часть оставалась на катушке. Кроме того, мы привезли и использовали двухтонную лебедку. Про нее разговора не было. За трос (который был страшным дефицитом при обустройстве виноградников) предлагали две бочки вина. Мы (с внутренним сожалением) отказались. Откровенных угроз не помню, но какие-то намеки были. За день до отъезда катушка с тросом с территории станции, находящейся под военизированной охраной, пропала. Разбирательство с руководством станции и охраной результатов не дало. Пропажу лебедки, которую отправляли железной дорогой, заметили только в Киеве. Обе они были записаны на меня, как материально ответственного. Трос на катушке с помощью справки со станции, подписанной Ильичевым, списали быстро. А вот лебедка «висела» на мне несколько лет и грозила мне большими потерями, если бы при очередной инвентаризации институтского оборудования ее не списали.
Последним аккордом в Сухумской эпопее был конфликт с водилой. Он предложил (по наводке той же охраны) загрузить в машину тонну мандаринов.
Вывозить мандарины из Грузии частным лицам было запрещено. Водила надеялся, что опечатанный груз, его путевой лист и я, как сопровождающий с оружием и со справкой о недопустимости вскрытия секретного груза, освободят нас от досмотра. По крайней мере, в Абхазии, а в Краснодарском крае и дальше он уже умел договариваться и помимо справки. Обещано было довольно много – несколько месячных зарплат. Ни минуты не сомневаясь, я отказался. Я так и не проникся главным принципом развитого социализма – что охраняешь, то имеешь.[44]
Особых приключений в дороге не было, за исключением того, что машину все-таки вскрывали – на Кубани милиция не верила, что кто-то может упустить возможность заработать на мандаринах и тем самым лишить их «отката».
Подготовка к вертолетным испытаниям
Побыть дома и окунуться в семейную жизнь мне не дали. Готовились летно-морские испытания с вертолетной гидроакустической станцией (ВГАС) «Ока» для получения экспериментальных данных для ее модернизации и проектирования нового поколения вертолетных станций.
Аппаратуру, которая у нас была в павильоне Сухумской станции, предстояло теперь разместить в вертолете Ми-4. Вертолет Ка-25, для которого предназначалась «Ока», был еще не готов. Заводские и Государственные летные испытания 1963 года для ее сдачи уже проводились на Ми-4. Переоборудование вертолета под испытания, выделенного летно-испытательным центром (ЛИЦ), только что созданом Гризодубовой, проводились в спешке. Никакой документации о переоборудованном вертолете не сохранилось, хотя с тех пор прошло меньше года.
Эскиз размещения аппаратуры в кабине Ми-4, который мы с Лазебным нарисовали в Киеве, в ЛИЦ был забракован. В этот раз все планировалось делать «правильно». Чертежи переоборудования вертолета должны были выполняться в КБ ЛИЦ и утверждены в КБ Миля.
Не помню, принимал ли участие в работе отдел главного конструктора п/я 153, но в КБ Миля возникли претензии.
С конца 50-х и до 70-х, когда упали цены на нефть, почтовые ящики бурно размножались, почковались и переименовывались в НИИ и заводы.[45]
Коснулся этот процесс и Комитета по Радиоэлек-тронике (с апреля 1965 г. Минрадиопрома). Его инсти-туты, разрабатывающие радиоэлектронику для авиа-ции (в подавляющем большинстве военной) нужда-лись в летных испытаниях своих приборов и проби-вали их через свои отделы летных испытаний.

Приборы Оки-2 в разрезе на выставке
Заместителем директора по летным испытаниям одной из ведущих в этой области организаций – НИИ-17 на Кутузовском проспекте – была Валентина Степановна Гризодубова. Воспользовавшись союзным статусом Комитета, она, при поддержке его председателя В. Д. Калмыкова, и пользуясь широкими связями в авиационных кругах, создала научно-исследовательский летно-испытательный центр (НИ ЛИЦ). Располагался он возле деревни Суково, вскоре поглощенной поселком Солнцево, возле одноименной ж/д станции и тамошнего грунтового аэродрома. Основными самолетами на нем были Ли-2 (см. книгу 2, [Рог15]) и вертолеты Ми-4.
Дело в том, что для многих приборов в испытании на еще не готовых новых самолетах необходимости не было. Например, Марк Галлай отработку слепого полета по радиолокационным данным и радиопри-борам отрабатывал для бомбардировщиков на Ли-2.
Гидроакустическая станция «Ока» (получившая серийное наименование ВГС-2) разрабатывалась для вертолета Ка-25ПЛ. Вертолет был еще не готов, и испытания решено было провести на Ми-4. Так как наш ящик и НИ ЛИЦ были тогда в одном Комитете по радиоэлектронике, то отсутствие ведомственных барьеров способствовали быстрому заключению договора на выполнение государственных испытаний «Оки» на их Ми-4, успешно проведенных летом 1963 г.
Итак, проект переоборудования выполнялся в ЛИЦ. На первый взгляд сложного там ничего не было: в кабине нужно было разместить пару стендов для стандартных радиоизмерительных приборов, а также прибора управления и индикации Оки, генератора и усилителя. Кроме того, предусмотреть их крепление и питание (на вертолете сеть 400 Гц). Труднее было разместить и укрепить довольно тяжелую лебедку с кабель-тросом, соединяющим опускаемый под воду прибор 10 «Оки» с прибором управления и индикации, генератором и усилителем.
Самым сложным оказалось сконструировать и разместить устройство для приема опускаемого устройства внутрь вертолета. Оставлять его вне вертолета было нельзя по двум причинам: во-первых, даже его внешний вид был секретным, во-вторых, при посадке вертолет мог его раздавить.
Для его размещения внутри вертолета нужно было делать в полу кабины вырез диаметром около 70 см и конструировать так называемую «юбку» для приема прибора 10.
Помог случай. Однажды я, спеша в монтажный участок, столкнулся в дверях КБ с невысокой, но очень корпулентной немолодой дамой в модном крепдешиновом платье. Несмотря на мою скорость, дама не пошевельнулась, а я отскочил от нее, как теннисный мячик от стенки. Дама была очень плотной. Приняв мои извинения, она поинтересовалась, кто я такой и что здесь делаю. Я представился, она тоже, хотя в этом не было необходимости – ее все знали. Это была легендарная Гризодубова. Пожатие у нее было мужским, взгляд проникающим. Благосклонно мне кивнув, она что-то спросила у Левина и царственно покинула КБ.
Через день она пришла в бюро и сказала, что их жалобы на нехватку места и скученность – там на человека приходилось около 3м2 (меньше санитарной нормы) не подтвердил ее заместитель. «Душно» – запричитали девушки – лето было жаркое.
«Я узнаю, что можно сделать, сказала В. С., но у меня нет аргументов». Тогда я, извинившись за вмешательство в чужие дела, сказал, что эти нормы составлялись для канцелярий, а не для конструкторских бюро и для потолков не менее 3,5 м высотой. Не помню, откуда во мне всплыли эти цифры, а сейчас и не могу узнать, сколько тогда было в СНИПе (строительных номерах и правилах). Мое нахальство недовольства у В. С. не вызвало; конструкторы мое вмешательство одобрили.
Еще один эпизод повлиял на мои отношения с КБ и В. С. Когда чертежи переоборудования были готовы, ребята в КБ мне объяснили, что к каждому документу должны прилагаться ноги, иначе результата можно не дождаться. Чертежи предстояло согласовывать в КБ Миля. Находилось оно в Томилино, в получасе езды от Курского вокзала.
Приняли меня там без восторга. У них была своя работа. Потом нашли кого-то, кто был связан с морским применением Ми-4, и дело сдвинулось. Но тут они увидели 70-сантиметровое отверстие в «полу» вертолета и зашумели: «ну, это нужно согласовывать с прочнистами, и это будет нескоро». И указали на довольно молодого человека, подключившегося к беседе.
К этому времени я уже знал, что прочность вертолета обеспечивают его «шпангоуты» и балки, а палубу-пол можно даже снимать. Но она нам была нужна для размещения приборов, лебедки и исследователей – все это было по весу меньше 12 десантников с оружием, для транспортировки которых и был создан вертолет.
Понимая, что испытания могут сорваться, я пошел ва-банк.
– Давайте я сам это рассчитаю, а Вы проверите – обратился я к прочнисту.
– Вы не сумеете, Вы же приборист – удивился он.
– Нет, – ответил я, – я инженер-физик, по специ-альности «динамика и прочность машин», кафедра Лурье физмеха Лениградского Политехнического.
Это был в известной мере покер. Конечно, потерю прочности из-за круглого отверстия в плите я рассчитать мог, но для этого мне требовались данные, которые знали только в КБ Миля.
Но и они явно завысили «ставку», как часто делалось в организациях, рассматривающих данную работу как дополнительную. Что-то «пробило» прочниста (как потом оказалось, выпускника МВТУ той же специальности) и он сказал, ладно, приезжайте через пару-тройку дней, мы позвоним.
Думаю, подобные расчеты они уже делали. Может быть, это был тот же вертолет, на котором проходили госиспытания «Оки», для которого уже делали дырку полу. Тогда летно-испытательная база Миля в Феодосии ничего ни с кем не согласовывала и, может быть, сделала «дырку» сама.
Это был единственный раз в жизни, когда я воспользовался названием полученной специальности, от которой отпихивался в институте.[46] Через год кафедра стала называться «Механика и процессы управления», чем на самом деле она и занималась и чему нас учила. Именно по системам управления (техникой, естественно) я надеялся стать специалистом.
Через три дня мне позвонили, и я был ошарашен, когда увидел чертежи Ми-4 в кальке с нашей аппаратурой и «дырой», где в правом нижнем углу в подписях разработчиков под фамилией Миля стояла и моя. Тушью на кальке я расписался, кажется, в первый раз. Миль расписался сам! Чертежи (синьку) я долго хранил, как свидетельство незаслуженного приобщения к делам и людям большого масштаба.
Чувствовал я себя неловко после удавшегося блефа, но дело удалось продвинуть.
Следующий барьер пришлось брать в монтажном цехе ЛИЦ. Там была своя специфика и люди проще и суровее. Даже спирт их интересовал не очень – при подготовке самолетов к испытаниям новых приборов заинтересованные московские фирмы широко пользовались расходным материалом «для промывки оптических осей».
Пришлось вызывать подмогу из Киева. Слесарь-механик привез стальные полосы и винты для крепления приборов, а Эдик Роговский начал монтаж приборов и подключение их питания через преобразователь.
Нас в фирме еще не знали и на мою телеграмму «Гранит, Гордиенко: Прошу продлить командировку Роговскому. Рогозовский», я получил ответ «Рогозовскому: Вам командировка продлена». Пришлось звонить в ящик и просить приделать «ноги» к телеграмме.
Вообще-то на территории ЛИИ, огражденной от окружающих полей и аэродрома невысоким забором, порядок соблюдался весьма относительный. Вохра и работяги вовсю пользовались «мягкотелостью»[47] В. С. по отношению к ним.
Механики заметили, что бензина для заправки самолетов иногда не хватает. Учинили проверку. Обнаружили слабо замаскированный шланг, перекинутый через забор. Из цистерны через него перекачивали бензин в запасные баки студебеккеров, подъезжающих с другой стороны забора. Воровали понемногу, но иногда не вовремя.
Второй случай. К проходной изнутри подъезжает трактор с новеньким прицепом, в котором гремит слабо привязанная бочка. Охрана строго справшивает: «Что в бочке? Документы есть?» – «Документов нет». – «Выгружай». Выгрузил и проехал через проходную. Увозя новенький прицеп.
На монтажный цех угрозы пожаловаться Гризодубовой не производили того действия, как на КБ. Пришлось ей действительно пожаловаться, благо на примере Эдика и нашего механика можно было сопоставить квалификацию и объемы работы. В. С. вздрючила не только начальника, но и мастеров. После чего рабочие на меня косились, но вертолет в срок сделали.
Пока делались чертежи и монтировались приборы, готовилась и утверждалась программа испытаний.
В нее, помимо экспериментов по точному пеленгованию, вошли измерения шумов, исследования следящей системы электропривода антенны, наблюдения за динамическим поведением опускаемого устройства.
Гризодубова познакомила меня с экипажем. Летать с нами должен был первый пилот Толя Соловьев, два года назад отлетавший на Госиспытаниях Оки. На тех испытаниях второй пилот менялся, в конце появился Юра Хрущев. С нами он был с самого начала. Важную роль в экипаже играл бортмеханик Виталий (фамилию, увы, забыл), он единственный, кто помнил, как раньше был оборудован вертолет и успел подсказать несколько полезных вещей при монтаже.

