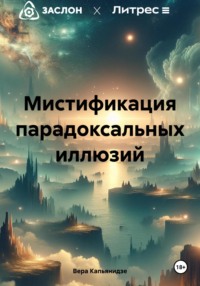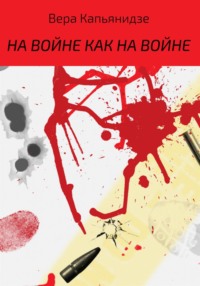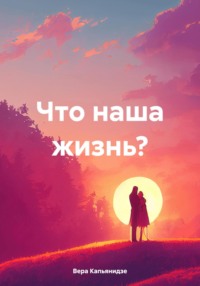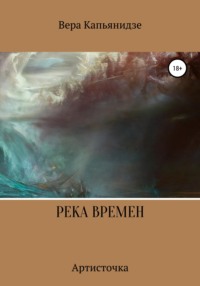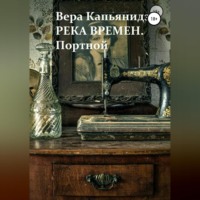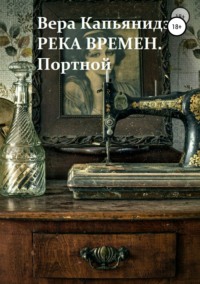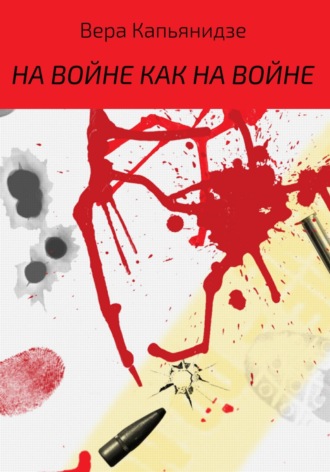
Полная версия
На войне как на войне
Труп Михея Игнатьевича лежал ничком, и Маша, как ни старалась, никак не могла перевернуть отяжелевшее тело. На помощь ей пришли солдаты, отдыхавшие от копания могилы. Машу, от вида мертвенно белого лица, с оцепеневшим ужасом в широко раскрытых глазах и замершем в последнем крике рта, замутило. Она едва успела отбежать в сторону. Ее рвало так, что, казалось, выворачивало наизнанку не только внутренности, но и всю душу. Обессиленная она села на землю. Подошел «начальник», протянул ей фляжку с водой и, словно извиняясь, сказал:
– Надо торопиться. Боюсь, барахолка разойдется.
И Маша, попив воды и сполоснув лицо, встала и безропотно взялась за дело. Марта, не выдержав, все же подошла ей помогать. Обе они старались не смотреть на завхоза и на пропитанную кровью гимнастерку. Уткнувшись взглядом в землю, Маша дрожащими руками с трудом приподняла ногу завхоза, а Марта стащила сапог. Так вдвоем, тужась и надрываясь, они стащили с Михея Игнатьевича сапоги и штаны. Попытались снять и гимнастерку, но Машу опять замутило, и она без сил упала на землю, и медленно поползла прочь.
Гимнастерку сняли солдаты, уже выкопавшие могилу.
– Складывайте аккуратно, чтобы крови не было видно, – распорядился «начальник».
Пока солдаты закапывали тело завхоза, Маша лежала ничком на земле, приходя в себя от пережитого ужаса. Марта молча присела рядом, боясь потревожить ее покой. В конце концов, она все-таки не выдержала:
– Маш, что с нами будет? Нас арестуют? – шепотом спросила она.
– Не знаю. Слава Богу, хоть живыми оставили, – взяла она девочку за руку, чтобы хоть как-то ободрить ее.
Так, не выпуская ее руки, они и ехали всю обратную дорогу.
Машина остановилась у здания с колоннами и львами по сторонам высокой гранитной лестницы. Маша узнала областной Драмтеатр, куда они до войны не раз ходили на спектакли с однокурсницами. Неподалеку от Скорбященской площади, в одном из переулков каждое воскресенье собиралась большая барахолка. Народ нес на продажу, все что имел – весь свой скорбный скарб, в надежде выручить хоть какие-то деньги на лишний кусок хлеба или обменять хоть на какую-то провизию. Потому и спешил «начальник», боялся, что народ разойдется. Тогда следующей барахолки пришлось бы ждать неделю.
– Ну что, девчата, вот ваше последнее задание: потолкаетесь с этим добром на барахолке. Глядишь, и клюнут барыги, кому военная форма так понадобилась.
– А почему мы? – робко возразила Маша.
– Да потому, что моих орлов, – начальник кивнул в сторону солдат, – они враз вычислят. А вы – народ нейтральный, безопасный. Да не тряситесь вы так, мы рядом будем, не дадим вас в обиду.
Он сунул в руки вконец удрученной Маше аккуратно свернутую форму, так что от окровавленной гимнастерки видны были только погоны с одной звездочкой младшего лейтенанта, сверху положил стоптанные сапоги, и все это накрыл фуражкой. Посмотрел, бесцеремонно снял с Маши косынку, сползшую на шею, стряхнул ее, и накрыл ею весь «товар», приоткрыв только небольшую часть, отчего остались видны только носки сапог, да околыш фуражки с красной звездочкой.
– Для маскировки, – пояснил он. – Ну, все девчата, идите. А мы следом за вами. И не бойтесь ничего.
Несмотря на то, что уже время перевалило за полдень, народу на барахолке было еще много. Около огромных кастрюль, обернутых одеялами, сидели бабки торгующие пирожками, топтались уставшие колхозники с курами, гусями и яйцами. Кое-где стояли продавцы ковров, свернутыми в рулоны, сновали торговцы часами, золотом, другим мелким товаром. Здесь продавалось и менялось все: граммофоны с пластинками, книги, одежда, обувь, картины, посуда… Маша с Мартой пристроились в ряду, где продавалась одежда. К ним подошли три раза, полюбопытствовали, чем торгуют, и равнодушно отошли.
Стояли долго. У Маши уже болела спина и онемели руки от однообразной позы, да еще и Марта, которую уже не держали ноги, висла то на одной руке у Маши, то на другой, ища в ней опору. Но они не уходили, помня, что майор строго-настрого наказал им стоять на одном месте, а не мотаться по рынку. У Маши уже кончилось терпение, и она начала потихоньку оглядываться по сторонам, ища «начальника» в надежде, что он даст отбой их мучениям. И в этот самый момент к ним подошли двое мужчин. Один – чернявый, лет сорока, с небольшой бородкой, в летнем парусиновом костюме, в летних штиблетах. Второй – помоложе лет на пять, белобрысый, в картузе, брюках, заправленных в сапоги, в застиранной серой рубахе, улыбчивый и круглолицый. Обыкновенные, ничем не примечательные дядьки.
– Чем торгуете, красавицы? – спросил молодой, приподняв край косынки, прикрывающей «товар».
– О! – удивился старший при виде товара. – Откуда это у вас? – поинтересовался вроде бы равнодушно, просто для поддержания разговора.
– Из госпиталя, – сдерживая волнение, ответила Маша.
– А что же поношенное? Нового-то нет, что ли? – Разглядывая сапоги, спросил чернявый.
– Так с раненого это.
– А! – понимающе протянул молодой, – И сколько просите?
Маша растерялась, не зная истинной цены, сказала первое, что пришло на ум:
– Тридцать.
– Ну, это ты загнула красавица. Червонец, не больше цена твоему товару.
Маша, боясь, что вдруг «покупатели» начнут разглядывать товар, а обещанной помощи не видно, тут же согласно кивнула.
Чернявый протянул ей червонец, Маша, слегка помешкав, взяла его и уже протянула свой «товар», замотав его получше в косынку… И в тот же момент, возникший как из-под земли «начальник» за спиной чернявого, скрутил его протянутую за товаром руку.
Белобрысый тут же зайцем скакнул в сторону, рассыпав мешок с жареными семечками у торговки по-соседству. Но его там словно уже ждали два солдата. Они, скрутив ему руки, и зажав с двух сторон, быстро повели на выход.
Все произошло так быстро и тихо, что барахолка продолжала все так же шуметь и сосредоточенно трудиться в своем ритме, словно ничего не происходило. Только ближайшие соседи Маши недоуменно и испуганно переглядывались.
И все бы прошло замечательно, но тут вдруг «начальник» державший чернявого за вывернутую за спину руку, побелел, глаза его с неестественно светлыми зрачками заволокло белой пеленой, и он медленно осел на землю, невольно отпустив своего пленника. Чернявый не растерялся, тут же откуда-то из-за ремня выхватил пистолет и с криком:
– Ах ты, сука! – навел его на Машу.
Маша вскрикнула, и ничком упала землю, увлекая за собой Марту. От выстрела, как по команде «барахолка» с шумом начала разбегаться. Как не затоптали лежавших на земле Машу и Марту, они так и не поняли. Когда же Маша подняла голову, рядом с ней с пеной у рта бился в конвульсиях «начальник». А чуть поодаль лежал оглоушенный прикладом автомата чернявый. Два солдата растерянно топтались рядом, не соображая, что им делать с «начальником».
– Это эпилепсия, – сказала Маша, устало поднимаясь с земли, и отряхивая испачканную юбку. – Надо что-нибудь ему между зубов вставить, чтобы язык не запал. А то задохнется.
– А что?
– У него в планшете карандаш был. Только побыстрее.
Через полчаса бледный, измученный припадком, «начальник» пришел в себя.
– Вам бы в госпиталь, – склонилась над ним Маша.
– Какой госпиталь, – слабым голосом возразил «начальник», – мне бы выспаться. Третьи сутки без сна. Спасибо вам за помощь. Сами доберетесь?
– Доберемся, я местная. Ой, а деньги-то, – вдруг вспомнила Маша.
– Какие деньги? – не понял «начальник».
– Да этот вот заплатил мне, – протянула смятый червонец Маша
– Оставьте себе. Девчонке пирожков купи. Целый день голодная.
Пока ехали до госпиталя, Марта с удовольствием уплетала горячие пирожки с капустой. Маша после всего пережитого есть не смогла. Потом они клятвенно пообещали друг другу никогда и никому не рассказывать, что произошло с ними в это воскресение. Только Марта спросила:
– А папе можно? Ведь он же все равно никому не расскажет.
– И папе нельзя. Никому.
В госпитале свою долгую отлучку они объяснили тем, что заезжали домой к Маше. Узнать, нет ли писем от родителей или от брата.
– А у нас тут такое без вас было! – рассказала им Зоя Петровна. – Михея Игнатьевича особисты забрали!
– За что? – устало поинтересовалась Маша.
– Да кто ж их знает? Разве они расскажут…
Молчать-то они молчали, да только вытравить из памяти то страшное воскресение в мае 1943 года, так и не смогли. Наверное, поэтому эту страшную и почти неправдоподобную историю спустя семьдесят лет рассказал мне сын Марты Петровны, мой лечащий врач, посвятивший себя медицине так же, как и его мать – врач высшей категории с многолетним стажем.
07.12.2014
ЛЮДСКАЯ ПАМЯТЬ
Старость – она как зима, подкрадывается незаметно. И начинается она совсем не с артритов, остеохондрозов и других возрастных болячек, а намного прозаичнее – с зубов. И тут самое главное – попасть в руки к хорошему ортопеду. Мне в этом повезло. Я попала не просто к хорошему врачу, а к настоящему волшебнику – Дорохину Николаю Ивановичу.
И вот на одном довольно мучительном приеме, он чтобы как-то психологически отвлечь меня от болезненной процедуры, стал рассказывать о своей маме – тоже враче, но в другой ипостаси – гинекологе. По всему было видно, что он искренне гордится ей.
Жизнь Марии Николаевны, как и всего ее поколения, сложилась непросто. В июне 1941 года, когда началась война, ей было всего 12 лет. И волею судьбы она вдвоем с глухонемым отцом оказались далеко от дома и от семьи – в Сталинграде, ныне – Волгограде. Ехали из Орджоникидзе, сейчас – Владикавказ, где были в гостях у братьев отца. Добраться до дома в город Энгельс, откуда они были родом, было нереально. На фронт уже нескончаемым потоком шли военные эшелоны, а в обратную сторону – в основном литерные составы с эвакуированными заводами. При таком графике пробиться на гражданский состав не было никакой возможности. Одним словом, застряли в Сталинграде.
И получалось, что там они оказались в очень сложной ситуации, то есть пребывали на данной территории на незаконных основаниях. В Энгельсе эвакуировали поволжских немцев, как неблагонадежных, в Среднюю Азию. Получалось, что они с дочкой сбежали от нее. И попади в руки НКВД при первой же проверке, неизвестно чем это закончится. Таились, как могли. Но беда, как известно, одна не приходит – заболела Маша, кашляла не переставая. И Николай – отец, повел ее в ближайший госпиталь. «Если меня и сдадут, то, может, хоть дочку при госпитале оставят, а там, глядишь, в какой-нибудь детдом пристроят, все с голоду не помрет», – рассудил он.
На его счастье главврач не стал сдавать их в НКВД. А ведь по законам военного времени и самому врачу могли запросто пришить статью за пособничество врагам народа. Самого Николая оформили истопником, и комнатку при котельной выделили для жилья. И Маша при нем вроде как ребенок, так что без работы и, главное, голодными теперь не сидели.
Дети в войну взрослели рано. Маше бы самое время в прятки да классики играть, или через скакалку прыгать, а она наравне со взрослыми стирала бинты, мыла полы, выносила судна, ворочала лежачих, выводила на прогулку неходячих. Случалось, и на операциях помогала. Где врачу что подать, где медсестрам помочь держать раненых. Наркоза в те времена не хватало, оперировали в основном на живую. Да и раненые с Машей вели себя тише. Стыдно было при ребенке свою слабость показывать – крепились, как могли. А раненые поступали в госпиталь нескончаемым потоком. Иногда казалось, что их везли не только со Сталинграда, а со всех концов Земли.
С приближением фронта к Сталинграду эвакогоспиталь постепенно дислоцировался в сторону Кавказа. И тяжелее всего пришлось уже в Адыгее, где зимой 1942-43 года оказался госпиталь. Немецкое командование вместо того, чтобы направить свежие силы на поддержку Гудериана в Сталинград, решило, что в этой ситуации важнее перебросить их на Кавказ. Это было своеобразной шахматной комбинацией. Отдав в жертву одну существенную фигуру, решили выиграть в большем.
Почему-то историки мало говорят о битве за Кавказ, хотя она была не менее ожесточенной и значимой в переломе войны, чем Сталинградская или Курская битвы. В совокупности со Сталинградом Кавказ являлся одним из стратегически важных объектов. Немцы рвались к нефти, которая нужна была им как воздух. Ее катастрофически не хватало для содержания танковых и воздушных сил. Европейской нефти для разраставшейся армии уже не хватало.
Именно тогда Маша и поняла, что значит «земля горит под ногами». Эвакогоспиталь, в котором работала Маша, находился в непосредственной близости от линии фронта. Бои шли такие ожесточенные, что поезд и машины не успевали развозить раненых по госпиталям. Работали, как говорится, прямо с колес, то есть подбирали раненых иногда прямо с поля боя. Санитарок не хватало, и Маше, которой к тому времени было всего 13 лет, приходилось вместе с санитарками не только грузить раненых в санитарный поезд, но и выносить их прямо с поля боя. Каждая такая поездка превращалась в кромешный ад, где в один непрерывный гул сливались стоны и крики раненых, надрывный рев самолетов, взрывы бомб, треск пулеметов, автоматные очереди, вой сирен. Больше всего на свете хотелось заткнуть уши руками, и ничего не слышать. Ну, хотя бы на одну минутку, только чтобы не оглохнуть. Но времени даже для этой минутки не хватало. Освобождение Кавказа Маше запомнилось на всю жизнь.
Сразу после освобождения Кавказа в феврале 1943 года, Николай перебрался в Орджоникидзе к братьям. А Мария…
Мария, взрослея среди страданий, боли, крови и смертей, уже и не представляла другой жизни вне госпиталя. Сердцем и душой прикипела к нему, и так и осталась при нем до самого конца войны.
Но когда-то всему в этой жизни приходит конец. Так и война, которой, казалось, не было ни конца, ни края, победоносно закончилась. Постепенно на смену эйфории торжества и радости пришла растерянность: «Как жить дальше?». Воинские части расформировывались, а с ними за ненадобностью сокращались и госпитали.
У многих фронтовиков росло непонимание и обида. Им казалось, что они – прошедшие сквозь горнило огня и страданий теперь до конца жизни будут ходить в героях и купаться в лучах славы. Оказалось, что не все так просто. Надо было перестраиваться, начинать новую, непривычную жизнь, в которой многие фронтовики не находили места, чувствовали себя незаслуженно обделенными. Так и Мария не понимала, почему после всех чествований и красивых речей в честь победителей, ей так и придется на всю жизнь оставаться санитаркой? Помог главврач госпиталя.
– Давай-ка, милая, поступай в мединститут, – посоветовал он. – Ты уже в медицине не меньше меня понимаешь.
– Да я и школу не закончила, сами же знаете. – Засомневалась Мария.
– Я тебе такую рекомендацию напишу, что тебя и без всякого образования возьмут. Да и от Правительства вышло постановление, чтобы фронтовиков, желающих учиться, брали без экзаменов, по собеседованию.
– А учиться-то как? – растерялась Мария. – Ведь я что знала, и то все позабыла.
– Ничего страшного, в мединституте ни математики, ни физики не надо знать. Читать и писать, я думаю, ты еще не разучилась, – хитро улыбнулся он, – ну, а остальному научат. Не легко, конечно, тебе придется. Но ты у нас девушка сильная, я думаю, справишься. Фронтовая выучка поможет. Воспользуйся шансом, такого потом может и не быть. Тем более что наш госпиталь скоро расформируют. Поезжай-ка ты к отцу в Орджоникидзе, я думаю, здесь тебе делать больше нечего.
И когда летом 1946 года 17-летняя Мария в выцветшей гимнастерке и кирзовых сапогах с письмом от главврача предстала перед ректором мединститута в Орджоникидзе, ее без всяких проволочек зачислили в студентки.
Сказать, что учиться было трудно, это не сказать ничего. Было невыносимо трудно. Сказывалась нехватка общих знаний. Многие предметы давались Марии только с зубрежкой. Иногда, особенно на первых курсах, казалось, что в госпитале на фронте, и даже в Адыгее было несравнимо легче. Были моменты, когда Марии хотелось все бросить и заняться своим привычным с детства занятием – пойти в санитарки при какой-нибудь больнице. Но мечты, как она будет идти по улице с гордо поднятой головой, а за спиной у нее будут перешептываться «Это наш врач!» останавливали и словно толкали ее: «Ты должна, должна, ты сможешь»…
После окончания института Марию направили работать в далекую и незнакомую Калужскую область. И снова новая жизнь, новые люди, новые обязанности. Но уже не было страха перед неопределенным будущим. Уже появилась уверенность в себе, в своих силах, в своей востребованности стране, людям. И греющая душу гордость за себя, что она, совсем недавно полуграмотная девочка смогла сама всего добиться в этой нелегкой жизни. Ведь врач, учитель и инженер в те времена были чуть ли не самые главные люди в стране, ну, если не считать правительства.
Из отдела здравоохранения по Калужской области Марию направили в райцентр Ульяново под Козельском, где ей, как специалисту, сразу предоставили помимо работы еще и жилье. Недолгое время Мария жила в комнатке при райбольнице, а чуть позже ей дали дом. Это был обычный деревенский дом с печкой и со всеми удобствами на улице. Но сколько же было счастья и гордости! Свой дом! Первый в ее жизни! Заработанный своим трудом! А к дому еще и земля, где можно разбить огородик. И даже курочек завести можно. Но самое главное – работа! Такая жизнь Марие и во сне не снилась! А что еще нужно было советскому человеку для счастья?
И Мария работала. И не просто работала – горела на работе. Она вся, без остатка отдалась ей. Работала так, как привыкла на фронте – не за страх, а за совесть. Как была приучена с детства, что если за что-то берешься, то надо сделать это не просто хорошо, а так, чтобы, как говорится, «комар носа не подточил». И хотя по специальности она была врачом гинекологом, но в экстренных случаях, когда любое промедление могло стоить жизни, одна, без хирурга проводила операции. Не боялась ответственности, ни на йоту не сомневалась в своих силах и способностях, когда вопрос касался жизни и смерти человека. Врачей не хватало, и нередко Мария заменяла и терапевта, и хирурга, и всех остальных специалистов. Одним словом, работала так, что уже в 1956 году ее назначили главным врачом Ульяновской райбольницы.
Тогда же Мария вступила и в ряды КПСС. И новый пост обязывал к этому, и, видно время подоспело. До этого она и сама хотела, но все не решалась, считала, что в партию принимают только самых достойных, особенных людей, героев. А что она? Она, как и все в то тяжелое время, считала, что делает то, что было необходимо стране. И не больше. Просто работала, как могла. А могла чаще всего до изнеможения. И совсем не понимала, как это ее медсестры могли устраивать посиделки с чаем в рабочее время, или просто сидеть и болтать, за что им нередко доставалось от Марии Николаевны по полной.
Медсестры откровенно побаивались ее за этот контроль и, если честно сказать, недолюбливали. А со старшей медсестрой, которой Мария Николаевна не раз выговаривала за ее «разболтавшихся» подчиненных, сложились не самые дружеские отношения. Старшая медсестра считала, что Мария Николаевна «перегибает палку», и как могла, защищала своих медсестер, и что нельзя так жестко относиться к людям. Ведь сейчас уже не война, а мирное время, и со своими обязанностями медсестры вполне справляются. Но Мария Николаевна никак не могла перейти на мирные рельсы. Правда, со временем, они со старшей медсестрой все же смогли найти общий язык.
Со вступлением в партию, к работе и домашнему хозяйству прибавились еще и общественные нагрузки: бесконечные партийные заседания, районные и даже областные партийные конференции. Мария ничего не могла делать спустя рукава. И к партийным делам отнеслась с таким же рвением, как и к основной работе. Ритм жизни ускорился настолько, что подчас не хватало сил. Казалось, что вот-вот и она больше не выдержит. Но приходило утро, и Мария, как стойкий оловянный солдатик, вставала и шла на работу. Откуда брались силы на все, она не задумывалась. Просто самым главным словом в ее жизни стало слово «надо».
К этим обязанностям прибавилось еще и то, что теперь она, как главврач, стала наставницей для интернов, направляемых в Ульяново после окончания институтов. Мария старалась заменить каждому молодому врачу если уж не мать, то хотя бы старшую сестру. Старалась, чтобы каждый врач в ее больнице нашел свой родной дом, как она когда-то. Опекала их, заботилась о каждом, чтобы были обеспечены жильем, дровами, углем, чтобы не ходили голодные. Знала о каждом практически все, старалась помочь и советом, и материально. Как в работу вкладывала все силы, так в молодых врачей вкладывала всю свою душу.
Медицина не всегда благодарное дело. Случались в больнице у Марии и такие случаи, когда кому-нибудь из молодых врачей грозило судебное разбирательство. От ошибок никто застрахован, тем более в медицине. И если такое случалось с ее интернами, Мария безоглядно бросалась на их защиту, бегая по райздраву, облздраву, партийным организациям всех калибров, чтобы выручить, не дать в обиду, не сломать начинавшуюся жизнь. Одним словом, носилась со своими молодыми кадрами как клушка с цыплятами, подчас забывая о своей семье. Приезжали интернами, разлетались опытными квалифицированными врачами. И в этом была заслуга Марии Николаевны.
И каждый, кто уезжал, клятвенно обещал никогда не забывать о том, что она для них сделала, не терять с ней связи, писать.
А Марии Николаевне опять приходилось идти в райздравотдел, просить, чтобы к ней в больницу прислали врачей, жаловаться, что не хватает специалистов…
– А зачем же Вы их отпускаете? – негодовали чиновники. – Обучаете, и отпускаете, обучаете и отпускаете. Да на Вас никаких врачей не напасешься!
– Ну как же иначе? – не понимала их Мария Николаевна. – Все рвутся домой, к своим мамам, к родне. Это же так понятно. А потом, не все ли равно, где эти врачи принесут пользу? У нас пока еще одна страна, и квалифицированные врачи нужны везде.
– Но вот вы-то сами никуда же не собираетесь уезжать?
– Нет, не собираюсь. Просто по одной причине – мне некуда ехать. Вся моя семья здесь – в Ульяново.
А вот с семьей у Марии не все задалось, как хотелось бы. В райкоме партии, где Марие часто приходилось бывать по служебным делам, она и встретила, как ей тогда казалось, свою судьбу. Полный энергии и партийного задора, молодой парень сразу понравился Марии. Главное, что она увидела в нем не только любимого, друга, но и соратника. Иван, окончивший Высшую партийную школу, обворожил ее своей серьезностью, основательностью. А еще – совершенным знанием истории партии, рассуждениями о партийной жизни. Она смотрела на него с восхищением. Еще бы такой красивый, умный, обходительный. И, главное, надежный, как ей тогда казалось. Они с неподдельным интересом обсуждали партийные заседания, конференции. Он, как и Мария, душой горел на своей работе. Именно таким Мария и представляла себе своего будущего мужа. В общем, как говорится, они не столько смотрели друг на друга, сколько вместе смотрели в одном направлении, и их путеводной звездой была коммунистическая партия Советского Союза. Как говорили в те времена: «Нам денег не надо – работу давай, нам солнца не надо – нам партия светит!»
Дело молодое, и очень быстро все разрешилось свадьбой. В 1957 году Мария родила девочку, а в 1963 еще и мальчика. Тогда же, в 1963 году умер отец. И словно порвалась какая-то ниточка, связывающая Марию с войной. Словно что-то отпустило ее, стало забываться, уходить в прошлое все, что было связано с ней. Даже сны о госпитале перестали сниться. Очень тяжело пережила Мария эту потерю. Ведь это, по сути, был самый родной для нее человек. И когда в том же году родился сын, она назвала его в честь отца – Николаем.
Казалось бы, что все идет как надо, своим чередом. Но в жизни все оказалось далеко от того идеала, который представлялся Марие. Иван все чаще и чаще после бесконечных проверок партийных руководителей колхозов и совхозов и обязательных застолий после них стал возвращаться домой затемно и в изрядном подпитии. Постепенно эта система вошла в норму. А потом эти бесконечные возлияния уже вошли в систему и без проверок, и даже безо всякой на то причины.
И в конце концов терпению Марии пришел конец. Конечно, это решение пришло не сразу и далось нелегко. Но Мария, к тому времени перепробовавшая все: и мольбы, и уговоры, и предупреждения, все же решилась на развод, хотя в те годы развод считался делом не то чтобы просто редким, но и постыдным. Тем более для пары такого масштаба в районе. Оба люди видные – он – партийный работник, она главврач районной больницы! Сколько пересудов и оговоров пришлось пережить Марие, сколько слез пролить, знали только бессонные ночи, да самая близкая подружка – подушка. А показывать свою слабость, или, хуже того – жаловаться, Мария не была приучена с детства. Так и жила теперь одна с двумя детьми на руках, забываясь только в своей работе.