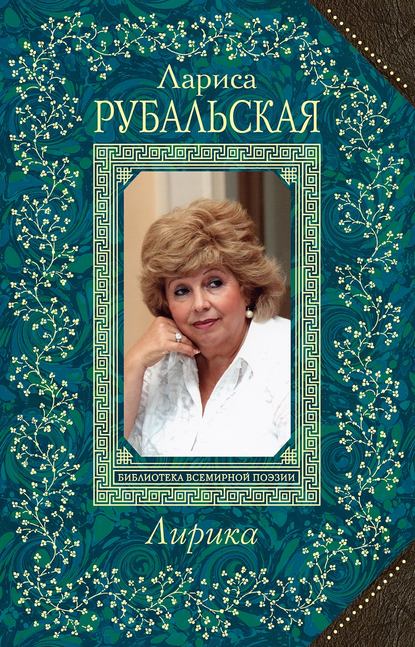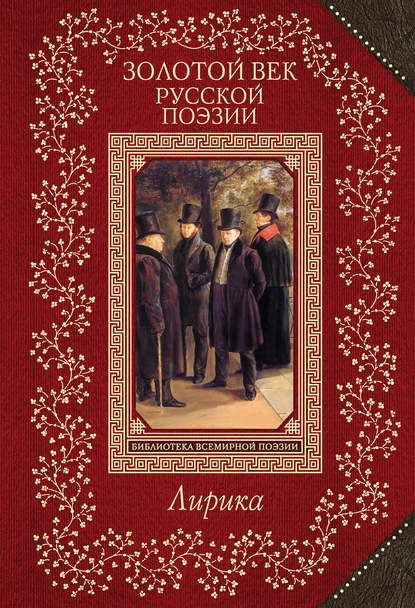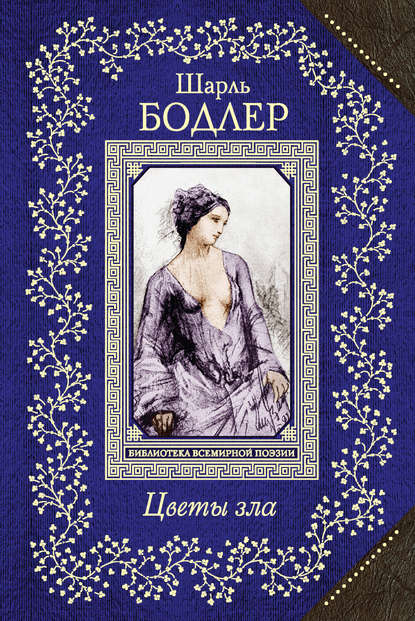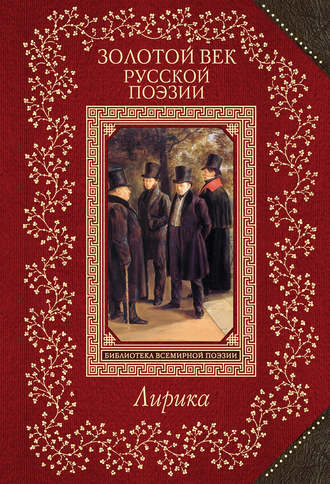
Полная версия
Золотой век русской поэзии. Лирика
Между тем в литературе происходили существенные перемены. Проза решительно начала теснить поэзию (сам Пушкин в 1830-е годы прозы, художественной, исторической и литературно-критической, пишет неизмеримо больше, чем стихов). Умножались журналы, расширялась и, соответственно, демократизировалась читательская аудитория, менялись вкусы. В моду вошли «неистовые» страсти, отвлеченная философия, масштабные политические идеи. Утонченная поэтическая культура пушкинской поры, требовавшая для своего восприятия образованности и досуга, новой демократической публике была непонятна и не очень нужна. В поэзии читатели искали того, что сразу поразит воображение, – новизны и эффектности выражений, необыкновенных, неведомых простому смертному мыслей и страстей. А поэты, в свою очередь, пытались уйти от растиражированных элегических мечтаний и «гладких» стихов, которые стало слишком легко сочинять, и тоже стремились к чему-то необыкновенному, превышающему человеческую меру.
А. И. Подолинский, оставаясь в целом последователем Жуковского и Козлова, в своих романтических поэмах, перенасыщенных восточной экзотикой («Див и Пери», 1827; «Смерть Пери», 1834–1835), перенес действие в космические сферы (предвосхитив отчасти «Демона» М. Ю. Лермонтова). А. И. Полежаев, человек несчастной судьбы, отданный в солдаты за непристойную поэму и умерший в госпитале после службы на Кавказе, в стихах с равной неистовостью предавался демоническому бунтарству и безжалостному самоосуждению, безбожному отчаянию и надежде, экзальтированной любовной страсти и просто грязному разврату (в результате ему почти удалось создать свой собственный стиль, отличающийся полной непредсказуемостью). В. Г. Тепляков, автор «Фракийских элегий», которые успел высоко оценить Пушкин, находя в них «гармонию, лирические движения, истину чувств», внес в элегию батюшковского типа мотивы поэзии Дж. Байрона и философии Шеллинга.
Тепляков, Подолинский, даже Полежаев, начавшие свою деятельность в 1820-е гг., еще многими нитями связаны с «пушкинской порой». А вот В. Г. Бенедиктов (1807–1873), приобретший в 1830-е гг. большую, но недолгую (хотя во многом заслуженную) популярность, крестьянский поэт А. В. Кольцов (1809–1842) и М. Ю. Лермонтов знаменуют своим творчеством принципиально новый этап в русской поэзии. Впрочем, в их время стихи уже отходят на второй план, чтобы в 1840-е гг. вообще быть вытесненными прозой на обочину русской литературы. Трилунный (Д. Ю. Струйский),[13] небольшой, хотя и талантливый поэт, двоюродный брат Полежаева, в своей «Литературной заметке» 1845 года имел все основания указать на смерть Пушкина (1837) как на рубеж в истории русской поэзии:
Со смертью незапной твоейНадолго умолкли на Севере песни!Без эха русская дремлет пустыня…1850 г. Н. А. Некрасов вынужден был констатировать: «Стихов нет. Немногие об этом жалеют, многие этому радуются, большая часть ничего об этом не думает».[14] Но пройдет совсем немного времени, и в творчестве Ф. И. Тютчева, А. А. Фета и самого Некрасова поэзия докажет свою способность конкурировать с прозой, уже куда более сильной, чем в пушкинскую эпоху. А спустя еще полвека настанет «серебряный век» русской поэзии, и стихи в симпатиях публики вновь уравняются с прозой, даже в чем-то вновь ее потеснят. Но все-таки «золотой век» русской поэзии – это пушкинская пора, когда стихи еще безраздельно господствовали в литературе, и, вероятно, потому эта «четверть века» – совсем небольшой исторический срок – дала такое количество поэтов, многие из которых, не будь Пушкина, могли бы дать этому времени свое имя.
Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)
Вечер
Элегия
Ручей, виющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!
С каким сверканием катишься ты в реку!
Приди, о Муза благодатна,
В венке из юных роз, с цевницею златой;
Склонись задумчиво на пенистые воды,
И, звуки оживив, туманный вечер пой
На лоне дремлющей Природы.
Как солнца за горой пленителен закат -
Когда поля в тени, а рощи отдаленны
И в зеркале воды колеблющийся град
Багряным блеском озаренны;
Когда с холмов златых стада бегут к реке,
И рева гул гремит звучнее над водами;
И, сети склав, рыбак на легком челноке
Плывет у брега меж кустами;
Когда пловцы шумят, скликаясь по стругам,
И веслами струи согласно рассекают;
И, плуги обратив, по глыбистым браздам
С полей оратаи съезжают…
Уж вечер… облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.
Все тихо: рощи спят; в окрестности покой;
Простершись на траве под ивой наклоненной,
Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,
Поток, кустами осененной.
Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!
Чуть слышно над рекой колышется тростник;
Глас петела вдали уснувши будит селы;
В траве коростеля я слышу дикий крик,
В лесу стенанье Филомелы…
Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч?
Восточных облаков хребты воспламенились;
Осыпан искрами во тьме журчащий ключ;
В реке дубравы отразились.
Луны ущербный блик встает из-за холмов…
О тихое небес задумчивых светило,
Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!
Как бледно брег ты озлатило!
Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем…
О дней моих весна, как быстро скрылась ты,
С твоим блаженством и страданьем!
Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!
О братья! о друзья! где наш священный круг?
Где песни пламенны и Музам и свободе?
Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг?
Где клятвы, данные Природе,
Хранить с огнем нетленность братских уз?
И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою,
Лишенный спутников, влача сомнений груз,
Разочарованный душою,
Тащиться осужден до бездны гробовой?..
Один – минутный цвет – почил, и непробудно,
И гроб безвременный любовь кропит слезой.
Другой… о небо правосудно!..
А мы… ужель дерзнем друг другу чужды быть?
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,
Иль суетная честь приятным в свете слыть
Загладят в сердце вспоминанье
О радостях души, о счастье юных дней,
И дружбе, и любви, и Музам посвященных?
Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей,
Но в сердце любит незабвенных…
Мне Рок судил: брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы Природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной,
И, взор склонив на пенны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!
Кто, в тихий утра час, когда туманный дым
Ложится по полям и холмы облачает,
И солнце, восходя, по рощам голубым
Спокойно блеск свой разливает,
Спешит, восторженный, оставя сельский кров,
В дубраве упредить пернатых пробужденье,
И, лиру соглася с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье!
Так, петь есть мой удел… но долго ль?.. Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!
Май-июль 1806Теон и Эсхин
Эсхин возвращался к Пенатам своим,
К брегам благовонным Алфея.
Он долго по свету за счастьем бродил —
Но счастье, как тень, убегало.
И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот —
Лишь сердце они изнурили;
Цвет жизни был сорван; увяла душа;
В ней скука сменила надежду.
Уж взорам его тихоструйный Алфей
В цветущих брегах открывался;
Пред ним оживились минувшие дни,
Давно улетевшая младость…
Все те ж берега и холмы,
И то же прекрасное небо;
Но где ж озарявшая некогда их
Волшебным сияньем Надежда?
Жилища Теонова ищет Эсхин.
Теон, при домашних Пенатах,
В желаниях скромный, без пышных надежд,
Остался на бреге Алфея.
Близ места, где в море втекает Алфей
Под сенью олив и платанов,
Смиренную хижину видит Эсхин —
То было жилище Теона.
С безоблачных солнце сходило небес,
И тихое море горело;
На хижину сыпался розовый блеск,
И мирты окрестны алели.
Из белого мрамора гроб невдали,
Обсаженный миртами, зрелся;
Душистые розы и гибкий ясмин
Ветвями над ним соплетались.
На праге сидел в размышленьях Теон,
Смотря на багряное море —
Вдруг видит Эсхина, и вмиг узнает
Сопутника юныя жизни.
«Да благостно взглянет хранитель-Зевес
На мирный возврат твой к Пенатам!»
С блистающим взором Теон
Сказал, обнимая Эсхина.
И взгляд на него любопытный вперил —
Лицо его скорбно и мрачно.
На друга внимательно смотрит Эсхин —
Взор друга прискорбен, но ясен.
«Когда я с тобой разлучался, Теон,
Надежда сулила мне счастье;
Но опыт мне в жизни иное явил:
Надежда лукавый предатель.
Скажи, о Теон, твой задумчивый взгляд
Не ту же ль судьбу возвещает?
Ужель и тебя посетила печаль
При мирных домашних Пенатах?»
Теон указал, воздыхая на гроб…
«Эсхин, вот безмолвный свидетель,
Что боги послали нам жизни —
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 151 (письмо к В. А. Жуковскому от 10 сент. 1831 г.).
2
Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 163.
3
Ср. замечание П. А. Вяземского в письме к А. И. Тургеневу от 5 сентября 1819 г.: «Жуковский слишком уж мистицизмует… <…> Хорошо временем затеряться в этой глуши беспредельной, но засесть в ней и на чистую равнину не выходить напоказ – слишком уж подозрительно» (В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 217).
4
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. С. 183–184.
5
См.: Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1995. С. 143–145. Дистанция, отделявшая Батюшкова от героя его лирики, была очевидна и его современникам. Ср. в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от декабря 1819 г.: «О характере певца судить не можно по словам, которые он поет… <…> Неужели Батюшков на деле то, что в стихах? Сладострастие совсем не в нем» (Остафьевский архив. Т. 1. СПб., 1899. С. 382).
6
Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 71.
7
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 109 (из воспоминаний М. В. Юзефовича).
8
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1878. С.XLI–XLIII. Ср. замечание Гоголя: «Его стихотворенья – импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 167).
9
Выражение восходит к стихотворению Кюхельбекера «Поэты» (1820): «Так! Не умрет и наш союз, / Свободный, радостный и гордый, / И в счастьи и в несчастьи твердый, / Союз любимцев вечных муз!» Пушкин перефразирует эти строки в элегии «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…», 1825): «Друзья мои, прекрасен наш союз!.. и т. д.»
10
Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 162.
11
Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 167.
12
Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 140.
13
Псевдоним происходит от герба дворянского рода Струйских, на котором изображены три луны и три полумесяца.
14
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1990. Т. 11. Кн. 2. С. 32.