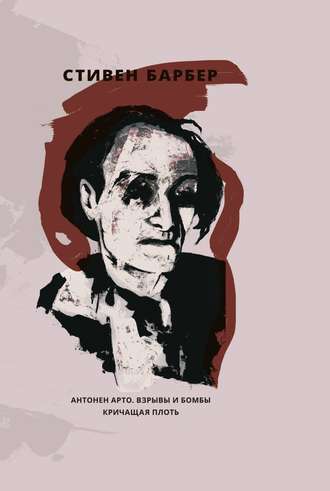
Полная версия
Антонен Арто. Взрывы и бомбы. Кричащая плоть (сборник)
Хотя в целом Арто к современникам всегда относился враждебно, именно в Париже переживал он периоды величайшей творческой активности и смелых экспериментов: в 1920-х годах – с сюрреализмом, и в 1946–1948 – когда после освобождения от нацистской оккупации Париж бурлил новыми художественными и философскими течениями. Арто был близко знаком с величайшими художниками и писателями двадцатого века: Пабло Пикассо, Жоржем Браком, Андре Жидом, Андре Бретоном, Тристаном Тцарой, Жаном Кокто, Жоржем Батаем и многими другими. Порой из этих знакомств вырастали ценные совместные проекты, особенно в сфере взаимодействия текста и образа. Однако в целом Арто своих знаменитых современников не жаловал. Его друг Жак Превель сообщает, что к Сартру Арто «питал отвращение»[8]. Как будто вовсе не замечал ни Жана Жене (активно работавшего как раз в последний парижский период Арто, но, возможно, в его глазах скомпрометированного связью с Сартром), ни Луи-Фердинанда Селина, несмотря даже на то, что оба опубликовали первые свои значительные книги у одного издателя – молодого и дерзкого Робера Деноэля: у Арто это была биография римского императора Гелиогабала в 1934-м году, у Селина – «Путешествие на край ночи» в 1932-м.
Арто был сыном своего времени, чутким к веяниям века, и в творчестве его подземными толчками отразилась всесторонняя культурная революция тех лет – новое понимание текста, тела, механизма. Однако умел он и отстраняться от мировых событий, уходя в «затвор» собственных внутренних импульсов, в сосредоточенный и напряженный диалог с собственным телом. На его жизнь пришлись две мировые войны: но первую (в возрасте восемнадцати – двадцати двух лет) он провел частично в санаториях, частично – в тылу, где был взят на службу и тут же комиссован из-за лунатизма, вторую (с сорока трех до сорока девяти лет) – полностью в психиатрических больницах. Ни в общественных, ни в военных конфликтах он не участвовал, и в газетном опроснике так ответил на вопрос о марокканском конфликте 1925 года: «Война, в Марокко или любая другая, представляется мне всего лишь вопросом плоти»[9]. Разногласие его с Бретоном в тот же период по вопросу о том, должно ли объединение сюрреалистов сближаться с французской коммунистической партией, связано было в первую очередь с разным пониманием «революции». Арто не видел возможности применять содержание нашего бессознательного к каким-либо политическим или общественным вопросам до тех пор, пока не изменится сама анатомия человека. Все связи Арто с общественными или культурными институтами были заранее обречены на провал из-за его неотступной страсти – идеи о человеческом теле, проходящем через трудное преображение. В творчестве Арто культура и природа сливаются воедино, вместе рушатся и низводятся к нулю. И то, и другое – ничто рядом с физическим преображением тела: без него все прочее не имеет смысла. Тело идет прежде слова и прежде мира.
Жизнь Арто была трагична: поражение за поражением, несчастье за несчастьем. Но из всех своих бед он выходил, становясь только сильнее. После каждой катастрофы – пересматривал свою неотступную мысль о жестовой жизни тела, заново ее формулировал и представлял совершенно по-новому. Его сюрреалистические работы 1920-х годов – эксперименты с сознанием в кинематографе и поэзии. Когда сюрреалистические проекты рухнули, Арто перенес свою работу в пространство театра. Здесь, в театральном представлении, казалось ему, преувеличенные и экспансивные жесты актеров, полностью подчиненных замыслу режиссера, обретут силу, необходимую, чтобы воплотить в себе кровь, чуму, смерть и огонь. Ограничения парижских театров 1930-х годов не позволили Арто воплотить и эту идею, и тогда он отправился в странствия, в Мексике и в Ирландии исследуя разрушительные ритуалы, в центре которых стоит человеческое тело. Первое его путешествие завершилось разочарованием, второе – психиатрической лечебницей.
Последнее «возрождение» Арто, после выхода из больницы в Родезе, ознаменовалось необыкновенной продуктивностью и разнообразием творчества. Теперь он свободно пересекал границы дисциплин – и создал огромный корпус вызывающих, провокационных материалов. В этом последнем периоде словно прояснилось и сконцентрировалось все, что он делал раньше. В эти годы он наконец достиг строгой и яростной ясности. Траекторию жизни и творчества Арто – и его идеи Театра Жестокости, и сюрреалистические тексты – невозможно понять, не учитывая этот мощный финал. В последние два года Арто переходит к публичным выступлениям, к радиозаписям, к статьям для многотиражных газет. Театральные манифесты Арто 1930-х годов, собранные вместе, не раз подвергались критике, исследованию, переосмыслению – и это в какой-то мере приглушило их воздействие. Не то с его последними работами: они разрознены, практически неизвестны широкой публике, и должны быть открыты вновь.
И жизнь, и творчество Антонена Арто посвящены одной теме: роли расколотого и преображающегося тела в изобразительном искусстве, в литературе, в театре и кинематографе, соотношению в нем случайности и необходимости, ущерба и восстановления. Тело-в-движении, бессмертное и бесстрашное, о котором мечтал Арто, остается символом возрождения и утверждения свободы. И в наши дни оно может стать источником вдохновения для каждого, кто стремится создать образ нового, живого тела, кто готов противостоять тому, что виделось Арто как немота, неподвижность, страх и болезнь.
Глава первая. Сюрреализм и пустота
Арто верил, что каждое рождение равносильно убийству.
Антуан Мари Жозеф Арто родился в восемь утра 4 сентября 1896 года, в доме 15 по улице Жарденде-Плант, недалеко от Марсельского зоопарка. Улица Жарден-де-Плант с тех пор была переименована и ныне носит имя Трех Братьев Карассо. Сам Арто, крещенный в Католической Церкви Антуаном, впоследствии не раз менял и переделывал свое имя. Он писал под множеством псевдонимов – например, ранние его сюрреалистические тексты выходили под именем Эно Дайлор. Перед поездкой в Ирландию в 1937 году он подписал книгу пророчеств «Новые откровения бытия» именем «Явленный». В том же году он писал: «Мое имя должно исчезнуть»[10] – и в первые годы своего заключения в психиатрической лечебнице не отзывался ни на какие имена. В лечебнице Виль-Эврар он взял себе девичью фамилию матери и утверждал, что его зовут Антонен Нальпа. В 1946 году, выйдя из больницы и вернувшись в Париж, Арто начал называть себя прозвищем «Момо» (марсельское жаргонное словцо, означающее «дурачок», «юродивый»), а фамилию свою произносил как «Уто» или «Тото». Но наконец он смирился с тем, что носит имя своего отца, Антуана Руа Арто (Антонен – уменьшительное от Антуан), и имена родителей Иисуса Христа. В последних своих произведениях, посвященных разрушению и воссозданию своего «Я», он называет свое имя с гордостью, чувствуя, что наконец заслужил право его носить:
Кто я?
Откуда иду?
Я – Антонен Арто и говорю это и знаю как это сказать сейчас вы увидите как мое нынешнее тело взрывается разлетается на куски и создается вновь в десяти тысячах своих проявлений новое тело в котором вы никогда меня не забудете[11].
Корни семьи Арто разбросаны по всему Средиземноморью, от Франции до Греции и Турции. Детство в Марселе – огромном торговом порту, где встречаются Европа, Азия и Африка, – подарило ему шумную разноголосицу языков, диалектов и жестов, отразившуюся впоследствии в его разноязычных текстах. Отец его владел компанией морских перевозок, разорившейся в 1909 году, и большую часть детства сына провел в плаваниях; умер он в 1924 году, когда двадцатисемилетний Арто собирался присоединиться к группе сюрреалистов. У матери его, левантийской гречанки, было много детей, из которых выжили лишь сам Арто, его брат и сестра; умерла она в 1952 году, пережив своего первенца Антонена. Семья была очень религиозна, порядки в ней царили суровые. На семейных фотографиях маленький Антонен выглядит потерянным. Позже, в лечебнице Родез, он придумал себе другую семью, из одних лишь женщин, которых называл «дочерями сердца своего», как воображаемых, так и реальных, которых знал в течение жизни; с этими фантастическими «родственницами» связывали его сложные отношения с сильной сексуальной окраской. Единственными реальными родственницами, включенными в эту «семью», стали бабушка Арто и ее сестра, Катрин и Ненека, добрые и любящие. Однако реальные семейные отношения с ними Арто «перевернул», воображая их своими дочерями – отважными и эротичными маленькими воительницами. В четыре года Арто перенес тяжелый менингит. И семья, и врач полагали, что это результат падения на голову, и считали, что ребенок не выживет. Перенесенная болезнь наградила ребенка нервностью и раздражительностью. Кроме того, он страдал от невралгии и заикался. Неудивительно, что школьные годы его в Марселе были тяжелы, а учеба не приносила успехов. В семнадцать лет он пережил депрессивный кризис – сжег все стихи, которые писал четыре года до этого, и бросил школу, не получив аттестата. В 1940-х годах в Родезе, постоянно вспоминая и «переписывая» свою прошлую жизнь, Арто часто рассказывал о том, как в эти годы возле церкви его пырнул ножом в спину какой-то сутенер. В Родезе Арто говорил, что это нападение стало для него символом общественного и религиозного зла, и что на спине у него остался шрам. Если нечто подобное вправду имело место – по всей видимости, причиной была размолвка между уличным бандитом, одним из многих в этом шумном городе, и неопытным юношей, ищущим сексуальных или наркотических приключений. Вскоре после этого родители Арто отправили своего беспокойного сына на лечение – в первый раз.
«Курсы лечения» в частных клиниках длились долго и обходились родителям дорого. Лечение продолжалось пять лет, с перерывом на два месяца, июнь и июль 1916 года, когда Арто был призван в армию. Короткая армейская служба его проходила в кавалерийском полку в Дине, городке в северном Провансе; вскоре он был комиссован из-за лунатизма. Родители и дальше продолжали держать его в клиниках – по-видимому, просто не зная, что еще делать с «трудным» сыном. Эти годы заточения стали предвестием более долгой и мрачной эпохи 1937–1946 гг. Писатель Пьер Гийота писал об этих первых заточениях Арто: семья «запирала его, боясь силы его мысли». Разумеется, во время этого «комфортабельного заключения» Арто времени даром не терял. Он читал Рембо, Бодлера и По. В последнем своем «санатории», в Невшателе в Швейцарии, начал рисовать карандашом и красками. С фотографий этого периода на нас смотрит мрачноватый, но привлекательный молодой человек с волнистыми темными волосами, склонный к сложным и театральным позам, явно живущий в каком-то своем мире. В мае 1919 года директор «санатория» доктор Дардель прописал Арто опиум, положив тем самым начало его пожизненной зависимости от наркотиков. В конце 1919 года Арто решил ехать в Париж, чтобы заниматься там литературой, играть в театре и сниматься в кино. Родители, видя, что все их усилия тщетны, согласились; доктор Дардель передал Арто под наблюдение своего парижского коллеги, доктора Эдуара Тулуза, работавшего над изучением и категоризацией творческих натур. В марте 1920 года, в возрасте двадцати трех лет, Арто в первый раз покидает дом самостоятельно – едет в Париж.
Париж, в котором Арто провел свои первые творческие годы, стал свидетелем взлета, а затем намеренного «самоубийства» дадаизма – движения, отрицающего искусство, любые принципы и правила, зародившегося во время Первой Мировой войны в Цюрихе и в Берлине. В конце войны Тристан Тцара привез его в Париж. Здесь дадаизм поначалу слился с новорожденным объединением сюрреалистов под руководством Андре Бретона, создававших «бессознательную поэзию» путем автоматического письма. Арто читал журнал ранних сюрреалистов под названием «Литература». Однако в течение трех лет с его приезда в Париж между сюрреалистами и дадаистами нарастали противоречия, а Бретон постепенно подчинял дадаистское движение, теоретически противостоящее любой иерархии и логике, своей авторитарной власти. Лидер дадаистов Тристан Тцара впоследствии, в середине 1930-х годов, стал марксистом и сурово критиковал сюрреалистов за их политические колебания. Пока Бретон подминал под себя буйство дадаизма и сочинял манифесты сюрреалистического движения, черпая материал для них попеременно из автоматического письма, идеализма и одержимости, Арто с грехом пополам делал карьеру театрального актера и художественного критика.
Доктор Тулуз предложил Арто вместе издавать полу-литературный, полу-научный журнал «Неделя»: именно там Арто впервые проявил то критическое дарование, которое не умерло в нем и четверть века спустя, во время создания текстов о Ван Гоге, Кольридже и Лотреамоне. Тулуз был главным врачом в психиатрической лечебнице Вильжюф на юго-востоке Парижа, где разрабатывал новаторские гуманные методы обращения с пациентами. Первые полгода в Париже Арто жил в семье Тулуза. Затем началась его бродячая жизнь, по большей части в восьмом и девятом парижских arrondisements [округах]: он часто переезжал из одной дешевой гостиницы в другую, порой оставался без крыши над головой и вынужден был ночевать у друзей. Эта бездомность преследовала Арто все годы в Париже, вплоть до отъезда в Ирландию в 1937 году. Лишь после возвращения в Париж, в 1946–1948 годах, Арто обрел там постоянный дом и место для работы – в своем флигеле в реабилитационном центре Иври-сюр-Сен.
Поначалу Арто мечтал стать известным киноактером. Его двоюродный брат по матери, Луи Нальпа, в 1920–1930-х годах был одним из ведущих продюсеров французского коммерческого кинематографа. Однако прежде чем получать роли в кино, необходимо было приобрести какой-то сценический опыт – и Арто обратился к театру. Четыре года играл он в парижских театрах, в самых разных труппах и ролях. Обычно он исполнял второстепенные роли, однако привлекал к себе внимание особым стилем жестикуляции – преувеличенной, драматической, – который выработал в эти годы. На его сценическую технику, с ее анти-натуралистической экспрессивностью, повлияло впечатление от выступления труппы камбоджийских танцоров на Колониальной Выставке в Марселе в июне 1922 года, где Арто побывал, когда приезжал в гости к родителям. Это впечатление предвосхитило другое, схожее, но гораздо более сильное, полученное девять лет спустя от выступления балийских танцоров, – впечатление, из которого вырос Театр Жестокости.
Из множества спектаклей, в которых играл Арто, самым выдающимся стала, пожалуй, Софоклова «Антигона» в декабре 1922 года. Трагедия, поставленная в театре Ателье на Монмартре, режиссером которой стал Шарль Дюллен, была адаптирована Жаном Кокто и сжата до тридцати минут, декорации к ней рисовал Пабло Пикассо, костюмы делала Коко Шанель, музыку писал Артур Хонеггер. Спектакль имел огромный успех, несмотря на скандал, устроенный на первом представлении сюрреалистами, которые презирали Кокто за его связи с высшим парижским обществом. Арто играл Тиресия, а роль Антигоны исполняла юная румынская актриса Женика Атанасиу, прекрасная странной и притягательной красотой.
Именно Женика Атанасиу в 1922 году стала первой женщиной Арто. До того, в санаториях, он несколько раз влюблялся в девушек, больных туберкулезом, но отношения с ними были чисто платоническими. Женика составляла им полную противоположность: она была смугла (предки ее были выходцами из Албании), сильна, дышала здоровьем и жизненной силой, а кроме того, обладала сексуальным опытом. Сам Арто в те годы также был красив яркой и тревожной красотой – с высокими скулами, глубокими черными глазами и губами, алыми от лауданума, который он начал принимать в то время. Между двумя актерами из труппы Дюллена, двадцатипятилетним Арто и двадцатитрехлетней Женикой, вспыхнул бурный роман. Письма Арто к Женике полны всепоглощающего, безбрежного обожания. К их отношениям он применяет самые возвышенные и грандиозные эпитеты, выносит их на уровень вселенной, даже вечности, однако становится сдержаннее, когда речь заходит о сексуальной стороне их связи. (Позже, в Родезе, Арто писал, что «Женика лишила его девственности»[12].) Страсть Женики была, даже на взгляд со стороны, куда спокойнее: эта амбициозная девушка приехала из Бухареста с твердым намерением стать в Париже знаменитой актрисой – и, быть может, в этих отношениях ее интересовал не столько сам Арто, сколько возможность через него выйти на его кузена-кинопродюсера. Впрочем, первые два-три года они прожили счастливо. Когда в июле 1923 года из-за недостатка денег Арто пришлось на время вернуться к родителям, Женика поехала с ним в Марсель, остановилась неподалеку и тайно с ним встречалась. Однако в театре дела у обоих шли неважно. Женика не слишком хорошо владела французским и говорила с сильным румынским акцентом, что сильно сокращало число доступных для нее ролей, а своеобразный стиль игры, выработанный Арто, отталкивал от него даже таких дружелюбно настроенных и готовых к экспериментам режиссеров, как Дюллен. Но настоящим камнем преткновения для их романа стало растущее пристрастие Арто к наркотикам. Женика хотела успешной столичной карьеры, блестящей светской жизни, наконец, регулярного секса; все усиливающаяся зависимость Арто от наркотиков, его беспорядочные и тщетные самостоятельные попытки отказаться от опиума выводили ее из терпения. Их письма друг к другу этого периода – почти сплошное мучительное обсуждение этой проблемы. «Мне нужны ангелы, – писал Арто. – Слишком долго я жил в аду. Пойми наконец: той боли, что я испытал, хватило бы на сотню тысяч человеческих жизней»[13].
Отношения эти продолжались шесть лет, до 1928 года, но становились все тяжелее. После каждой попытки Арто отказаться от наркотиков следовал срыв, а за ним – горькие упреки от Женики. Оба начали изменять друг другу: Женика – с другим актером из труппы Дюллена, Арто – с Жанин Каи, позже вышедшей замуж за писателя Раймона Кено. Ближе к концу их отношений Арто писал Женике: «Только вскрыв определенного рода ненависть, под покровом ее найдешь ты истинную любовь»[14]. В 1924 году Женика начала сниматься в небольших ролях в немом кино. Она появляется в сюрреалистическом фильме «Раковина и священник», снятом по сценарию Арто, а также в фильмах Г. В. Пабста и Жана Гремийона. Наконец в 1928 году Женика уходит от Арто к Гремийону. Арто писал, что после ее ухода чувствовал себя «многажды одиноким»; вплоть до 1940 года – до заключения в лечебнице Виль-Эврар – он продолжал забрасывать Женику письмами. Он защищал свое пристрастие к героину и декламировал: «Женика, мы должны покинуть этот мир; но для этого должно явиться Царствие Мира Иного, и мне нужна хорошо вооруженная армия…»[15] Во многих отношениях Женика Атанасиу осталась самой важной женщиной в его жизни. Даже после выхода из Родеза, в мае 1946 года, он безуспешно пытался найти ее по адресу на улице де Клиньянкур, где она жила в бедности, давно уже нигде не играя и не снимаясь.
В последний период выступлений Арто на театральной сцене, в 1923–1924 гг., от критических заметок об искусстве и традиционно структурированных стихов он перешел к неструктурированной поэтической речи, удивительно прямой и откровенной. Эти годы стали для него временем больших перемен. Первые восторги романа с Женикой Атанасиу сменились тревогой по поводу наркотической зависимости, а также острым, мучительным осознанием того, что стихи его полны разрывов и пустот.
Он начал публиковаться: первая его книга, «Небесный трик-трак», собрание ранних стихотворений, вышла в свет в мае 1923 года, издал ее тиражом в 112 экземпляров арт-дилер Даниэль-Анри Канвейлер. Позже Арто не признавал эту книгу и отказался включать ее в свое «Избранное»: по его мнению, составлявшие ее стихи, рифмованные и разбитые на строфы, были безнадежно многословны и анахронистичны. Они создавались с оглядкой на определенный культурный климат, и это приводило в ужас Арто 1940-х годов, с его беспощадным отношением к своей работе и к себе. Однако в 1923 году он очень гордился этой публикацией.
Кроме того, свои стихи Арто публиковал в малотиражном журнале «Бильбоке», в котором сам редактировал и финансировал единственные два номера, вышедшие в свет в феврале и в декабре 1923 года. Журнал полностью состоял из текстов Арто: критических заметок, представлявших собой своего рода мост между литературной и художественной критикой – нечто вроде того, что уже делал Арто для доктора Тулуза (а впоследствии будет делать в Родезе для своего психиатра доктора Фердьера), – и поэзией обнаженного нерва, язык и манеру которой ему еще предстояло отшлифовать за годы сотрудничества с сюрреалистами. Распространялся журнал в узком кругу, в основном среди друзей; в качестве адреса редакции Арто указывал адрес дешевой гостиницы вблизи площади Клиши, где жил в то время. Он продолжал писать и постепенно накапливал связи в художественной и литературной среде Парижа. В этот же период он познакомился с несколькими художниками, связанными с группой сюрреалистов – Андре Массоном, Хуаном Миро и Жаном Дюбюффе.
Важнейшим достижением в жизни Арто в эти годы стало начало съемок в кинематографе. В экспериментальном фильме Клода Отан-Лара «Faits Divers» [ «Происшествия»] он сыграл любовника, которого в конце фильма медленно душат (это показывалось замедленной съемкой). Отан-Лара вспоминал позже, что Арто снимался с восторгом, однако использовал странные, конвульсивные жесты и наотрез отказывался что-то в них менять. После этого Луи Нальпа наконец убедился, что его двоюродный брат действительно способен сниматься в кино; к тому же Арто был исключительно красив, и лицо его прекрасно смотрелось на экране – так что Нальпа начал использовать свое влияние, чтобы добывать для него роли в коммерческом кинематографе. Первым стал зрелищный приключенческий фильм «Сюркуф», снятый Луи Мора в Бретани с июля по сентябрь 1924 года. В этом боевике – жанре в немом кино чрезвычайно популярном – Арто играл предателя, падающего со скалы. Публика оценила пламенную игру Арто, и на короткое время он поверил, что сможет стать кинозвездой. В каком-то смысле так и произошло: он снялся в двух величайших фильмах 1920-х годов – «Наполеоне» Абеля Ганса и «Страстях Жанны д'Арк» Карла Теодора Дрейера. Однако, хотя Арто продолжал сниматься (все реже и все в более случайных ролях) следующие десять лет, кинематограф скоро стал для него источником неудач и горького разочарования.
Литературной карьере Арто положила начало переписка 1923–1924 гг. с Жаком Ривьерой, молодым редактором «Нового французского обозрения». Молодого поэта Арто привлекало громкое имя этого журнала; однако его авангардная поэзия для консервативного «НФО» – по крайней мере, под руководством Ривьера – явно не подходила. (Следующий редактор этого журнала, Жан Полан, впоследствии стал другом и горячим сторонником Арто и опубликовал множество его текстов.)
Ривьер, однако, ценил ни на что не похожую поэзию Арто – он относился к ней как к литературной проблеме, которую стоит исследовать, обсудить и разрешить. В письмах к Ривьеру Арто излагает свой взгляд на поэзию: по его мнению, отрывок – «неудавшийся» текст – живее, глубже и потому ценнее «целого», «удачного» стихотворения. Создавая поэтические фрагменты, Арто демонстрировал независимость от эстетики связности и целостности. Его «отрывки» не пытаются встроиться ни в какую поэтическую систему; «неудачность» изгоняет их на территорию личного Я – единственную территорию, которая для Арто имела значение. Традиция «отрывков» восходит к романтической поэзии, не пренебрегали «отрывками», среди прочих, Бодлер, Рембо и Ницше; однако в поэтических фрагментах Арто бросается в глаза намеренная хаотичность, изуродованность языка поэзии и образов себя. В письмах к Ривьеру Арто описывает коммуникацию, в центре которой – молчание, отверженность и отчужденность. Единственное стихотворение, которое Арто вставил в эту переписку, собираясь ее опубликовать, называется «Крик».
В письмах Арто анализирует творческий процесс создания фрагментов. Он описывает свою неспособность написать законченное стихотворение, говорит о том, как острая боль парализует его мыслительный аппарат, едва он пытается найти и сформулировать какой-либо поэтический образ, как все в нем словно каменеет – и с отвращением он отшатывается от этой задачи. Однако, безжалостно критикуя себя за это, Арто не замечает, что сам опровергает себя своими же текстами. Противостоя поэтическим «схемам», неизбежно возникающим при попытках «сочинять стихи», Арто отстаивает спонтанную природу творческого акта, лишенную всякой упорядоченности, но пишет о ней глубоко, ясно, четко и жестко.
В первых своих письмах к Ривьеру Арто еще говорит, что хотел бы превратить свои «ошметки» в полноценные стихи. Ради этого он готов писать дальше, преодолевая чувства утраты, уныния и отчаяния. Ривьер отвечает довольно банальными подбадриваниями. Разумеется, пишет он, сосредоточившись и приложив усилия, Арто скоро научится писать «вполне законченные и гармоничные» стихи, именно такие, какие стоит публиковать в «Новом французском обозрении». Арто пробует – и терпит неудачу. Фрагмент неудавшегося стихотворения он отсылает Ривьеру, прося, чтобы тот признал за ним «подлинность» и литературное существование. На это Ривьер не дает прямого ответа, однако предлагает Арто вместо самих стихов опубликовать их переписку о поэзии – так сказать, раму вместо картины. Он хочет представить эту переписку миру как уникальное свидетельство внутренней работы поэта – уникальное, и в то же время универсальное: вот почему он готов убрать из текста имена. Арто с яростью отказывается. Он подробно объясняет свои мотивы: «К чему лгать? К чему превращать в литературу то, что родилось как крик самой жизни? К чему облекать в одежды вымысла стон жизни, неистребимую материю души?»[16] Бессвязные, дикие крики стихов, по словам Арто, должны быть представлены читателю во всей своей независимости и бесстыдной боли – лишь тогда эти отрывочные звуки обретут дыхание и жизнь. Только так они смогут выразить себя. Чувство отчуждения – вот для Арто единственное целое, единственное, что нельзя разорвать на фрагменты: «Могу сказать совершенно честно и всерьез: я не живу в этом мире – и это не просто мое ощущение»[17].

