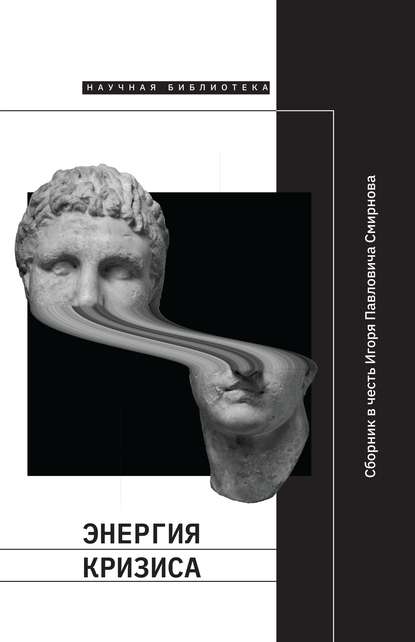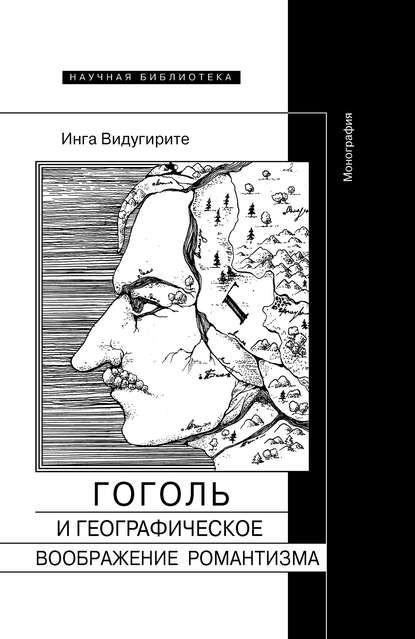Полная версия
Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный герой

Татьяна Венедиктова
Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный герой
© Т.Д. Венедиктова, 2018
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018
* * *Сначала мне казалось, что написать книжку будет легко. В конце концов, про романы, поэмы, стихотворения, которые в ней разбираются, я каждый год читаю лекции в курсе истории зарубежной литературы, а новая рамка – вот она, найдена: способ чтения, внутренне адекватный способу письма и определенной исторической ситуации, конструкции субъекта… Но рамка – она же и идея «буржуазного читателя» – то расширялась, то сжималась, то уточнялась, то вызывала сомнения в целом. Словом, сесть и написать – не вышло.
Пока писалось, я много с кем из коллег (тех, кто вежливо интересовался, чем, мол, вы сейчас занимаетесь?) делилась своими муками. Услышав про «буржуазного читателя», одни кивали, заключив ошибочно, что я занялась социологией литературы, – другие, чей слух резал архаичный социологизм, тактично маскировали недоумение, – третьи просили объяснить получше. Первые и вторые были правы в своем непонимании – оно двигало и мною тоже. Третьим – особая и огромная благодарность: как правило, их не удовлетворяли мои объяснения, но заинтересованность оказывалась лучшим видом помощи и поддержки. Я надеюсь, что и читатель книги не удовлетворится вполне предложенной в ней трактовкой и тем самым разделит мой интерес к проблеме, продолжит начатый разговор, который очень нужен.
Проект «социологической поэтики», принятый к разработке в круге Бахтина почти сто лет назад, развивается сегодня очень разнообразно. В руслах «нового историзма» и «теории практик», культурной прагматики, рецептивных, дискурсологических, когнитивистских штудий предпринимаются все новые попытки понять эстетическое как разновидность социального, а социальное – во внутренней связи с чувственно-эстетическим. Продуктивность этих подходов определяется в конечном счете умением раскрыть «имманентную социологичность» всегда неповторимой художественной формы – за столетие эта задача ничуть не стала легче, она перед нами и стоит.
Поэтому адресат книги – все читатели литературы, «буржуазные» и «небуржуазные», профессионалы и вольные любители, для кого занятие это настолько серьезно, лично и неотделимо от жизни вообще, что не задуматься над его природой просто нельзя.
…Мы должны подбирать наши опыты путем осторожного наблюдения над человеческой жизнью; нам следует брать их так, как они проявляются при обыденном течении жизни, в поведении людей, находящихся в обществе, занимающихся делами или предающихся развлечениям. Тщательно собирая и сравнивая опыты этого рода, мы можем надеяться учредить с их помощью науку, которая не будет уступать в достоверности всякой другой науке, доступной человеческому познанию, и намного превзойдет ее по полезности.
Давид Юм[1]Опыт всегда безграничен и всегда неполон; это бесконечная чувствительность, своего рода гигантская паутина из тончайших шелковых нитей, заполняющая собой покои сознания и захватывающая в свою сеть мельчайшие летучие частицы. Это атмосферная сторона мысли, которая, будучи едина с воображением, отзывается на слабейшие намеки жизни, преобразует едва ощутимое веяние в откровение… Способность угадывать невидимое на основе видимого, отслеживать подразумеваемое, судить о целом по отдельному рисунку, ощущение жизни столь полное и всеобъемлющее, что вам как будто известен любой ее уголок, – все это в сочетании и стóит, возможно, называть опытом… Если опыт состоит из впечатлений, можно сказать, что впечатления и есть опыт, то есть… это самый воздух, которым мы дышим.
Генри Джеймс[2]Знание приходит к нам через сеть предрассудков, мнений, реакций и поправок к ним, заведомых ожиданий, преувеличений, короче, через плотную, глубоко укорененную и никогда не прозрачную до конца среду опыта.
Теодор Адорно[3]Если творчеству суждено найти завершение только в процессе чтения, если художник вынужден передоверить другому окончание начатого, если стать главным в своем произведении он может только через читательское сознание, значит каждая книга есть призыв… Если задать вопрос, к чему именно призывает писатель, ответ окажется простым… писатель обращается к свободе читателя, которая должна стать соавтором его произведения.
Жан-Поль Сартр[4]Опыт есть нечто такое, что проделываешь в одиночку, и, однако же, полностью он осуществим лишь постольку, поскольку выходит за рамки чистой субъективности туда, где другие смогут, не скажу в точности его повторить, но, по меньшей мере, с ним столкнуться или пересечься.
Мишель Фуко[5]Учиться нужно у тех, кто раньше тебя работал в разрыве между чувством и выражением, между немым языком эмоции и произвольностью языка слов, у тех, кто пытался найти голос для молчаливого диалога души с самой собой и кто рискнул поставить всю сумму доверия, на какую можно притязать, на сходство человеческих сознаний.
Жак Рансьер[6]Не исключено, что в мире ближайшего будущего не останется реальной альтернативы общественной модели либерального капитализма, за исключением, возможно, модели исламского фундаментализма. В этих условиях либеральному капитализму, или демократии, или свободному миру понадобится самое пристальное внимание романистов, понадобятся, как никогда раньше, их усилия перевоображать, вопрошать, подвергать сомнению. «Наш противник – наш лучший помощник», говаривал Эдмунд Берк, поэтому демократии, в отсутствие коммунизма, который, составляя ей оппозицию, помогал ей прояснять собственные идеи, понадобится в качестве оппонента литература.
Салман Рушди[7]«Буржуазный читатель» в литературной истории
Фраза «буржуазный читатель» в названии этой главы и в подзаголовке книги взята в кавычки не случайно. Можно считать ее цитатой из «Лексикона прописных истин», вроде того, что начал когда-то составлять, но не закончил Гюстав Флобер, – из воображаемого собрания словесно-идейных окаменелостей, расхожих стереотипов (от греч. stereos, камень). Они составляют усредненный, автоматизированный пласт нашего сознания и ими нередко, даже как правило, люди пользуются для разгораживания символического пространства: по эту сторону границы – общепонятное «наше», по ту – непонятное, подозрительное «чужое». О субъекте, обозначаемом как «буржуазный читатель», в большинстве случаев можно предположить заведомо, что он – «не наш», «чужой». Образ его собирается по большей части из негативных характеристик: некто ограниченный, поверхностный, преданный рутине, жадный до удовольствий, далекий от высших запросов духа и т. п. Стереотип этот не вчера сложился и широко распространен. Не только в советские, но и в до- и в постсоветские времена и не только в России, но немало где в Западной Европе и в Америке «буржуазный читатель» был привычно обливаем презрением. Его карикатурный образ лепили социальные аналитики и высоколобые критики, знатоки литературы и сами писатели, всякий раз подразумевая – как противоположность – читателя, более достойного уважения, приближенного к идеальной норме. В зависимости от мировоззренческих установок норма эта ассоциировалась либо с толщей народной, либо с передовой, то есть антибуржуазной, интеллектуально-художественной элитой.
Еще раз воспроизводить эту логику, конечно, нет смысла: «углубляться» в затоптанное общее место – не все ли равно, что нырять в пустой бассейн? Но покопаться в культурных слоях, задавленных шлаком привычной риторики, стоит. Не исключено ведь, что мы не все знаем про «буржуазного читателя» и что, помимо культурной дефектности, у него имеются заслуги перед культурой. Стоит исследовать и взаимосвязь между литературным чтением – занятием досуговым, приватным, по преимуществу домашним – и множеством других коммуникативных практик, образующих в совокупности социокультурный «ансамбль».
Задуматься об этом тем более уместно в России, в начале XXI столетия, что фигура «буржуя», оставленная мерзнуть на питерском перекрестке сто лет тому назад, вновь объявилась на авансцене нашей культурной истории и стала предметом общественных дискуссий. Правда, до сих пор они сводились лишь к переворачиванию сложившегося негативного клише: на месте эстетически убогого обывателя, пошлого сноба, потребителя-эгоиста предстал вдруг некто похожий, но почти во всех отношениях безупречный – динамичный, хваткий, образованный, на зависть успешный, но притом и наделенный «хорошим чувством прекрасного и отменным вкусом к жизни»[8], то есть соединяющий в себе свойства делового человека и тонкого эстета. Элемент неуверенности, скрытого ресентимента сквозит и в этих попытках реабилитировать буржуазность, и в возобновляемых усилиях ее заклеймить – уже, правда, не с классовых, а с культурно-охранительных позиций, как явление органически «нерусское»[9]. К полноценному пониманию ни то, ни другое не продвигает, а в нем как раз есть большая нужда.
Российская гуманитарная среда полнится сетованиями на неспособность общества к продуктивной модернизации по европейскому образцу – и контрзаявлениями о цивилизационной несовместимости с ним же. Обе несогласные стороны используют один и тот же довод: не пережив «в свое время» того, что пережила культура Запада, мы обречены на особость судьбы – только одних эта особость обескураживает, а других вдохновляет. Но убедителен ли сам аргумент? Не очень. Сегодняшняя жизнь не только России, но и большей части «незападного» мира отмечена такой чересполосицей, таким причудливым смешением элементов почвенного традиционализма и «позднего капитализма», что детерминистская логика типа «запад есть запад, восток есть восток» в большинстве ситуаций просто неуместна. Многомерность, мозаичность, соседство взаимоисключающего, непредсказуемость формирования культурных гибридов подразумевают вариативность, возможность выбора и действий по выбору на каждом шагу. Хотя не гарантируют, разумеется, успеха действий.
Тем интереснее в этой ситуации спросить и тем важнее понять: в чем, собственно, соль того «современного» опыта[10], который был исторически освоен в культуре Запада, со всеми его плюсами и минусами? Что такое буржуазность как культурный феномен, исторически подвижный, однако и устойчивый? Век буржуа, как нередко именуют XIX век, отодвинувшись во времени, не утратил актуальность – он продолжает порождать вопросы, и не только о самом себе. К чужому прошлому мы обращаемся в данном случае из любопытства к собственному настоящему и будущему.
Фигура читателя нуждается в понимании отнюдь не меньше, чем приложенный к ней эпитет. Господствовавшее вплоть до второй половины ХХ столетия представление о литературе было сфокусировано на авторской творческой инициативе, идее подражания жизни и идее целостности, завершенности художественного призведения. В последние полвека в литературоведении распространился и возобладал иной взгляд на текст, который можно назвать прагматическим, – сквозь призму читательского восприятия и соучастной, конструирующей, по сути незавершимой деятельности воображения. «Старая» и «новая» перспективы не исключают, конечно, друг друга. Даже на уровне здравого смысла понятно, что всякое индивидуальное творчество опирается на коллективные представления и всякое письмо подразумевает читательское участие. Чтобы стать писателем, надо уже быть предварительно читателем и продолжать им быть на всех этапах творчества – это тоже понятно. Если что принципиально ново в так называемом «повороте к читателю», совершившемся в литературной науке под конец ХХ столетия, то это смещение внимания с произведения, представлявшегося прежде как объект – относительно автономный, стабилизированный авторским замыслом и внутренней структурой, – на процессы его воспроизводства и со-производства – социальные, контекстозависимые, предполагающие участие многих инстанций. Трактовка литературы как дискурса подразумевает рассмотрение ее поэтики и эстетики в свете простой, но и специфически требовательной к аналитику посылки, которая была принята к разработке почти сто лет назад в круге Бахтина. – Художественное следует понимать как «особую форму социального общения, реализованного и закрепленного в материале художественного произведения», которая (форма) в то же время и «не изолирована: она причастна единому потоку социальной жизни… вступает во взаимодействие и в обмен силами с другими формами общения»[11]. Через полвека после В. Волошинова французский теоретик М. Зераффа ту же по сути мысль сформулирует чуть иначе: «Написание и последующее чтение романа – сущностно социальные и дополняющие друг друга акты, ибо они придают форму, упорядочивают, сообщают очевидность той первичной социальной деятельности, которую мы по большей части не сознаем, – сообщительной речи»[12].
Богатый опыт работы с проблематикой литературного чтения, накопленный за последние десятилетия, показал, насколько этот предмет притягателен для исследования и насколько скользок. Рецептивное литературоведение, восходя к славе в 1970-е годы, стремилось описывать тонкие структуры индивидуального восприятия текста в русле феноменологического подхода. В 1980-х на первый план вышел подход историзирующий и социологизирующий: художественный текст исследовался на предмет тематизации в нем культурных моделей чтения, авторских представлений об аудитории и т. д. Параллельно с этим происходило становление новых дисциплинарных субполей на границах литературоведения – таких, например, как история книги, история и новая социология чтения. Исследователи озаботились проблематикой читательских сообществ: одни – путем учета статистических данных (кто и что читал, каким образом, в каких условиях), другие – путем учета культурных свидетельств (дневников, маргиналий, писем). В итоге на сегодня мы имеем несколько систем координат, в каждой из которых – по отдельности – литературное чтение описывается достаточно успешно. Актуальной задачей остается проработка зон продуктивной «коммерции» между ними в рамках решения общих задач.
Одна из таких общих задач – уточнение природы или, лучше сказать, исторической специфики литературы как культурно-языковой диалогической практики. Уж очень непохожие друг на друга явления обозначались этим словом в разные периоды истории, даже если не выходить за пределы истории европейской. Важнейший и ближайший к нам сдвиг пришелся на рубеж XVIII и XIX столетий: с этих пор литературное использование языка начинает уже последовательно соотноситься не с предполагаемо универсальной риторической и вкусовой нормой и не с представлением о мире как готовом, от века и навек устроенном, – а с изменчивым «духом времени», с неповторимым характером сообщества (народа, нации), с индивидуальной творческой инициативой. Язык и речевое творчество теперь важно понять в их неотделимости от опыта реальной жизни, а реальную жизнь – в ее открытости перемене. В то же время связь социальной и эстетической сфер трактуется позитивистской наукой как исключительно внешняя – в смысле детерминированности эстетического социальным. Впрочем, уже в начале ХХ века такой подход становится предметом полемики, а к концу столетия превращается в вопиющий архаизм. Перемена, описываемая, как правило, под знаком того или иного «пост-изма» – постпозитивизма, постструктурализма или постмодернизма, – предполагает новое понимание социального в целом: фокусировку не на объективности и системности «общества», «общественных отношений», а на опыте как «подлинном материале… анализа»[13]. «Социальность» понимается как «динамичная интерактивная матрица отношений, посредством которой люди понимают обитаемый ими мир и обретают в нем цель и смысл существования… [а также] постоянно взаимодействуют друг с другом, по ходу этого взаимодействия производя друг друга»[14].
Став интересной в ее субъективной наполненности, вариативности и многоголосии, социальная история не может уже, конечно, рассматриваться как чисто внешняя детерминанта литературного творчества. В каком-то смысле даже наоборот: именно через историю литературного воображения и художественной речи возможно получить доступ к тем измерениям прошлого, которые иначе остались бы «опечатанными», закрытыми, невидимыми. С точки зрения новейшей социологии литературы прошлое по-настоящему говорит с нами «не иначе как через посредство формы»[15].
В фокус аналитической работы, таким образом, попадает «взаимоперелив» опыта коллективного и индивидуального, общественного и эстетического, и мостиком между ними выступает воображение – в частности, художественное (литературное), организующее и процесс производства текста, и процесс его воспроизводства в актах восприятия. В русле подхода, долгое время безусловно господствовавшего в литературоведении, человек читающий оставался невидим: в лучшем случае – благодарный восприемник, в худшем – тормоз литературной истории, творимой усилиями авторов-новаторов. В той мере, однако, в какой читатель выходит из тени, осознается в качестве не только пассивной, ведомой, но и активной и равноправной стороны литературного процесса, и сама природа этого процесса открывается новому описанию[16].
В дальнейших рассуждениях мы примем за ориентир парадоксальную формулу историко-литературного процесса, предложенную британским историком чтения Д. Ф. Макензи: «Новые читатели создают новые тексты, новые значения которых напрямую зависят от их новых форм»[17]. Связь между авторским творчеством и чтением постулируется здесь «контринтуитивным» образом. Носительницей «духа времени» читающая публика выступает наравне с профессионалами художественного письма, а значит, и от нее, от публики, могут исходить творческие импульсы, порождающие новое видение, побуждающие к пересмотру привычных конвенций. Масштабные сдвиги в литературной системе объясняются в итоге не только инициативами отдельных писателей-изобретателей, но и характером внимания к ним читателей – столько же подвигами индивидуального творчества, сколько «муравьиными» усилиями многих и многих. Можно предположить, что решающую роль в системной перестройке литературных практик играет именно «аккумуляция индивидуальных актов чтения и реакций на текст – по мере того как инновативное творческое усилие, вложенное в создание конкретного произведения, оказывается замечено и оценено все большим числом участников конкретного литературного поля»[18].
В историко-литературных, историко-культурных исследованиях, выполняемых в обновленной системе координат, сформировавшейся с учетом «поворота к читателю», сегодня широко представлен социологический подход. Он, однако, и явно недостаточен. Описывая разные страты и объективные характеристики читающей публики, социальная наука не дает ответа на вопрос: как люди читали, как воспринимали тексты? К слабоосознаваемой, глубоко субъективной динамике смыслопроизводства – а именно она составляет соль литературного чтения – мы не получаем таким образом доступа. Для этих целей, кажется, более продуктивен анализ текста в феноменологическом, рецептивном ключе, но и к нему есть немало претензий: образы читателей, реконструируемые по ходу такого анализа, всегда гипотетичны и напоминают субъективные самопроекции со стороны исследователей. В этой ситуации актуален поиск категорий, способных отдать должное обоим подходам, при всей трудности их совмещения, – таково, например, понятие «формация чтения» (reading formation), разрабатываемое британским критиком Т. Беннетом. «Формация» в данном случае определяется как сложный ансамбль взаимоотношений, рамок и кодов (эпистемических, идеологических, институциональных, эстетических, языковых), организующих процесс литературного чтения в конкретном контексте/сообществе. Можно сказать, что формация чтения естественным образом зависит от письма, то есть следует за писательской творческой инициативой, но столь же естественным образом задает этой инициативе направление реализации и вполне может служить «ферментом» ее самопреобразования. Акты чтения и письма, иначе говоря, предъявляют друг другу не только рамки, но и стимулы к обновлению. В фокус исследовательского внимания выдвигается «интерфейс между формированием внутритекстовых субъектов и вариантами, множественными и разнообразными, формирования субъектов во внетекстовой реальности»[19]. Существенно раньше о том же, по сути, писал В. Волошинов, настаивая на том, что литература взаимосвязана с социальной средой через «непосредственный внутренний отклик»[20]. Отдать должное «непосредственному» и «внутреннему» характеру «отклика» можно не иначе, как видя в литературной форме форму взаимоотношения и чувствуя в слове, фиксированном на странице, «чуткий, гибкий и свободный момент»[21], который одновременно есть момент социальный.
Таково общее русло поиска, в который вписывается и в котором будет развиваться предлагаемое исследование. Центральный его вопрос можно сформулировать так: можно ли говорить о «буржуазной читательской формации» – применительно к конкретному месту и времени, а именно западной Европе XIX столетия? Если да – в чем состоит ее своеобразие, чем оно обусловлено и что, в свою очередь, обусловливает в культурном поведении современного человека?
В первой главе развернута гипотеза, связывающая «буржуазные» литературные практики с режимом коммуникации, основанной на базовой аксиоматике культуры города и рынка. В рамках ее 1) автономный индивид располагает опытом как потенциально ценной собственностью; 2) ценность опыта реализуется путем его разработки (рефлексии, критики) и может наращиваться путем заинтересованного обмена; 3) обмен опирается на развитые и все более усложняющиеся формы коммуникативного опосредования, к числу которых относятся литературное письмо и чтение.
Во второй и третьей главах, следуя мысли Жан-Поля Сартра о том, что «все литературные произведения несут образ читателя, для которого они созданы»[22], мы предпримем ряд попыток отыскать и уточнить этот образ в произведениях поэзии и прозы XIX века. Это возможно, если трактовать их как принципиально двусторонние акты «познания-проникновения»[23], сама форма которых подразумевает определенное устройство межсубъектных отношений. Таким образом, о «буржуазном читателе» как соучастнике литературного диалога мы попробуем расспросить писателей XIX века, точнее – оставленные ими тексты.
Конечно, присвоение читателю статуса действующего лица и равноправного партнера по творческому процессу, уж тем более «культурного героя», может показаться сильным преувеличением. Но мы постараемся показать, что это не только продуктивное допущение, но и заслуженная честь. Разумеется, деятельностное, героическое начало в литературе привычнее ассоциировать с подвигами авторского «гения» – в повседневной практике чтения оно не присутствует явно или становится видимым только при определенной фокусировке взгляда. Таков образ Наполеона на анонимной гравюре «Могила Наполеона», которую Кьеркегор описывает в своей магистерской диссертации «О понятии иронии» (1841). На картине, кроме мирного ландшафта и двух больших деревьев, отбрасывающих тени на могилу, как будто бы ничего нет, и торопливый зритель ничего другого не заметит. Однако между двумя деревьями есть просвет, и если следовать глазами за его контурами, внезапно «из ничего» выступает профиль Наполеона (архибуржуазного, кстати, героя!), и теперь уже невозможно заставить его исчезнуть. В такой рефокусировке взгляда, осуществляемой по возможности последовательно, мы и видим свою задачу.
Решив для начала «раскавычить» словосочетание «буржуазный читатель», то есть отказаться от его привычного использования в качестве идеологического клише, попробуем теперь вновь заключить его в кавычки – уже как знак нового использования. Теперь эта фраза будет означать исторически и социально конкретную – но не вполне понятную нам пока в своем составе и относительной ценности – совокупность представлений, схем опыта, ходов воображения, навыков работы со словом.
Сначала мы рассмотрим «прозо-поэтический» эксперимент, предпринятый Уильямом Вордсвортом, Эдгаром Алланом По, Шарлем Бодлером и Уолтом Уитменом, чтобы в связи с ним поставить вопрос: были ли эти великие поэты лишь антагонистами и одинокими заложниками «буржуазного века» (каковыми они в наших глазах привычно и законно являются) или также опирались на открытый этим веком субъективный ресурс и с опорой на него переустраивали косвенный диалог с читателями? Затем рассмотрим образцы прозы Оноре де Бальзака, Германа Мелвилла, Гюстава Флобера и Джордж Элиот. Здесь возникает возможность по-новому подойти к проблеме социальности классического реалистического романа, который давно и привычно трактуется как «буржуазный жанр», – имея в виду не отображение в нем социальных реалий, а скорее прагматику формы художественного высказывания или то, что Бахтин и Волошинов предложили в свое время называть «социологической поэтикой».