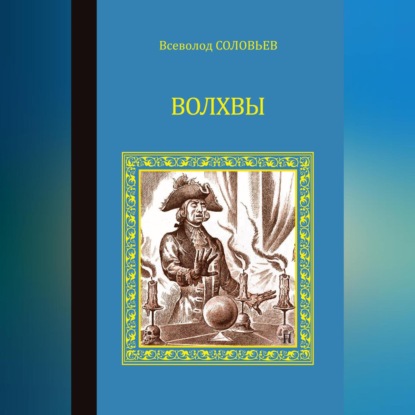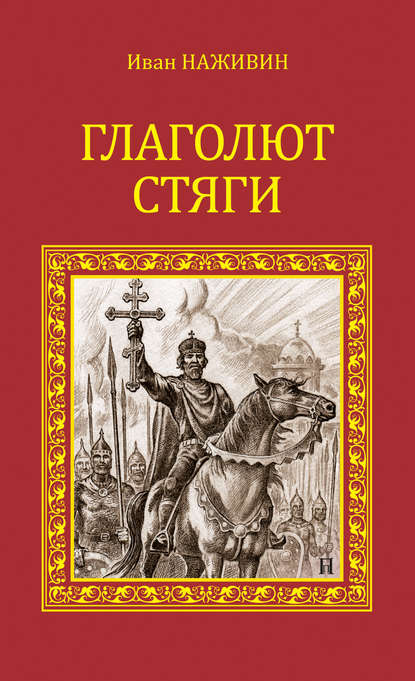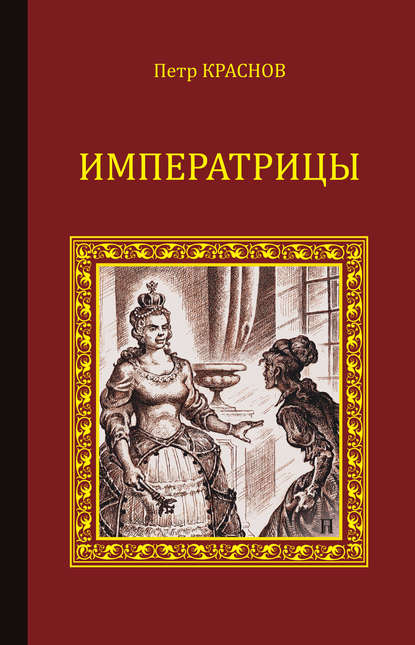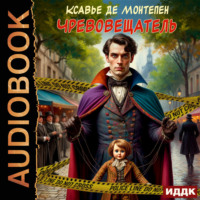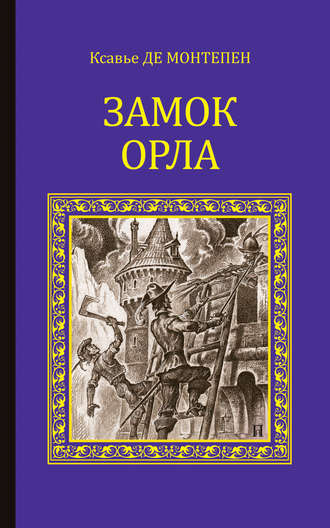
Полная версия
Замок Орла
В этом месте и сама тропинка как будто обрывалась.
Мальчуган остановился.
– Ну, – спросил всадник, – что такое?
– Вам надо спешиться, мессир, мы подошли к Морбьерскому лесу, дальше вы сможете вести за собой коня только под уздцы, а идти будет трудно: тропка через лес совсем узкая.
Незнакомец в точности последовал указаниям проводника – и двинулся следом за ним к лесной тропинке.
Перед тем как войти в чащу, мальчуган набожно перекрестился.
– Почему ты крестишься? – полюбопытствовал его спутник.
– Потому что поговаривают, мессир, будто в Морбьерский лес приходят совокупляться оборотни со всей округи.
– Ты что, боишься оборотней?
– Нисколечко, мессир, потому как, знамо дело, они ничего не могут супротив человека безгрешного, творящего крестное знамение.
– А сам-то ты видел оборотней?
– Ни разу в жизни. Зато батюшка мой видал однажды, аккурат после того, как исповедался, – и проклятое отродье ничего ему не сделало.
Идти дальше становилось все труднее, и едва начавшийся разговор прервался. Переплетенные ветви заслоняли тропинку на каждому шагу. Господину с большим трудом удавалось их раздвигать, и все равно время от времени они нещадно хлестали его по лицу.
Надвигалась ночь. Довольно резкий и холодный ветер, разгулявшийся с наступлением сумерек, разогнал тучи, скопившиеся за день, и на прояснившемся небосводе, над самым горизонтом, показалась полная луна, большая и красная, как окровавленный щит.
Несмотря на все крепчавшую стужу, незнакомец, хотя ему пришлось сбросить с себя плащ и привязать его к седлу, чувствовал, как по его лицу, стекая со лба, ручьем льется пот.
– Слышь! – вдруг окликнул он проводника. – Это ж не дорога, а бог знает что. Здесь сам черт ногу сломит.
– Чего не скажешь о лесорубах да угольщиках, – ответил мальчуган. – Жители Шампаньоля, когда им нужно в Сен-Дени, идут в обход через Клерво. Но Жак Вернье сказал, что вам было угодно идти этой дорогой.
– Мы вперед-то хоть продвигаемся?
– Еще бы! Ежели не пятимся назад, значит, хоть сколько-то, а продвигаемся.
– А когда выберемся из леса?
– Через час или около того – может, чуть раньше, может, чуть позже.
– Скажи только, ты точно знаешь, что не заблудился?
– О, за это ручаюсь. В Морбьерском лесу я не заплутаю даже с закрытыми глазами. Я частенько хожу сюда по весне за дроздовыми яйцами.
– По крайней мере, – тихонько усмехнулся путник, – здесь мы уж точно никого не встретим – ни злодея, ни благодетеля, только это и утешает.
Паренек, однако, все слышал.
– Ах, мессир, – сказал он, – на Бога надейся, а сам не плошай. Везде хватает и таких людишек, и сяких, которым и скверные дороги нипочем, взять хотя бы серых Лепинассу-Прилипалы или коников капитана Лакюзона.
– А кто такие серые?
– Шайки из Бресса и Бюге, у них там заправляют двое – Лепинассу-Прилипала и Чернявый, и грабят они всех без разбору.
– А почему ты назвал сподвижников капитана Лакюзона кониками?
– Потому что их все так называют. Почем я знаю?
Мальчишке было неведомо то, что известно нам. Слово коник – уменьшительное от контиец, то есть франш-контиец.
Между тем незнакомец продолжал:
– Где же сейчас капитан Лакюзон?
– Да кто его знает.
– Как это? Неужели никто не знает, где его искать?
– Везде.
– Что это значит?
– Когда его ищут в Лон-ле-Сонье, он объявляется в Сен-Клоде… Утром его видят в Муарансе, а он в Шампаньоле, ну а к вечеру уже в Нозеруа. Я же говорю, капитан Лакюзон даже больше, чем человек, потому как найти его одновременно можно там, где есть шведы, серые, французы и прочие враги…
Мальчуган смолк.
«Да кто же он такой на самом деле, этот капитан? – задумался путник. – Что это за человек, который, будучи еще совсем молодым, окружил себя такой почти немыслимой славой и, подобно гомеровским богам, парит над землей в лучезарной дымке?..»
Вслед за тем господин, все такой же безмолвный и задумчивый, взялся дальше прокладывать себе путь сквозь непролазную чащобу.
И вот самая изнурительная часть путешествия закончилась.
Чаща раздалась и мелколесье сменилось высокими деревьями. Мало-помалу и те редели, сбиваясь вдали в отдельные купы.
Опустилась ночь, но в небе сияла луна – своим ярким синеватым светом она озаряла вершины уже близких гор – заснеженные пики Юрской гряды и самое плоскогорье, куда выбрался незнакомец со своим проводником.
На фоне освещенных лунным сиянием горных вершин темный провал лежавшего под их ногами ущелья казался еще более мрачным; но вскоре привыкший к темноте глаз уже мог различить стремительный водный поток, клубящийся белесым туманом вдоль излучин.
Склон – покруче островерхой кровли дома, – что спускался с плоскогорья в глубь ущелья, глядел на север и был сплошь завален снегом.
– Мессир, – молвил мальчуган, – здесь я вас оставлю.
– Что?! – вскричал в изумлении путник. – Ты меня бросаешь? Почему же?
– Потому, мессир, что там, впереди, Орсьер, а я ни за что на свете, ни за какие коврижки не пойду в Орсьер в полнолуние.
– А что такого страшного в твоем Орсьере?
– Там творится шабаш, – отвечал Никола Паже взволнованным, испуганным голосом.
Чужак улыбнулся.
Мальчуган этого не видел, но догадался.
– Мессир, – проговорил он, – такими вещами не шутят, особенно ночью. Иначе и беду недолго накликать!
– Но ведь мы условились, – продолжал чужак, – что ты ведешь меня до самого Сен-Клода и я плачу тебе два экю.
– Правда ваша, мессир, и уж коль я нарушаю свое обещание, вы вольны ничего мне не платить, я буду не в обиде.
– Тогда зачем ты обещал сопровождать меня, если собирался на полпути повернуть обратно?
– Я не думал, мессир, что мы задержимся в пути так долго, и совсем забыл, что нынче полнолуние.
– Да ну! И что теперь прикажешь мне делать, без проводника? Я не знаю этих мест и непременно заблужусь, а то и сверну себе шею, как напророчил Жак Вернье.
– Мессир, – возразил мальчуган, – тут вам нечего бояться. Дальше дорога простая, почти что тракт, и я вам буду без надобности. Здесь только одно опасное место – то, где мы сейчас стоим. Вся загвоздка в ужасном спуске, вашему коню такой, пожалуй, не одолеть, да и от меня помощи ни на грош… А спуститесь в долину Морез, что у нас под ногами, так, считайте, самое трудное позади.
– Но там же на дне ущелья река?
– Да, Бьен… Идите вдоль нее до тех пор, пока не наткнетесь на мельницу. Если прислушаться, и отсюда слыхать, как она скрипит крыльями.
– А дальше?
– За мельницей будет брод, аккурат напротив старой ивы, которая едва цепляется корнями за землю… в том месте и перейдете через речку – глубина там небольшая, от силы фут.
– Точно знаешь?
– Сам не раз переходил – мне воды там по колено. А когда переберетесь на другой берег, подниметесь на горный кряж и пойдете вдоль опушки ельника. Эта тропинка выведет вас к Лонгшомуа. А из Лонгшомуа в Сен-Клод ведет дорога. Только не забудьте, мессир, прочесть молитву, когда пойдете через Орсьер, вдоль общинных земель Жир, а завидите по левую руку яркий свет, так сразу же пускайте коня в галоп и скачите прочь без оглядки… этот свет и есть огонь шабаша.
– Давай сюда шапку, – велел путник.
– Вы что, решили все же заплатить мне два экю? – с простодушным удивлением спросил Никола Паже.
– Да. Вот, держи.
– Ах, мессир! – воскликнул мальчуган. – Я буду горячо молить Бога за вас.
– Ну что ж, – ответил молодой человек, уносясь мыслями к Эглантине, – попроси его избавить меня от самой горькой муки, какую только можно пережить… попроси, чтобы весть, которую мне сообщили сегодня, оказалась ложным слухом!
– Я попрошу его прямо сейчас… и завтра… и потом буду просить, мессир.
– Но где ты собираешься спать этой ночью? Ведь ты же не думаешь возвращаться в Шампаньоль?
– Я пойду в одно местечко, где местные прятались, когда сюда нагрянули шведы с французами, там полно соломы – хватит на целую постель.
– Где же это?
– В Эриссонских пещерах.
– Тогда ладно, доброй ночи, малыш, и удачи!
– А вам, мессир, доброго пути! И да хранит вас Бог!
С этими словами Никола Паже пошел прочь, размахивая своими длинными руками.
А незнакомец меж тем исследовал взглядом головокружительный спуск, который ему предстояло одолеть на пару с конем: склон казался тем более опасным, что был сплошь покрыт снегом.
Путешественник крепко обвил повод вокруг руки, которой придерживал благородное животное, и потянул его за собой. Однако конь, напуганный видом зиявшей перед ним мрачной бездны, долго упирался… потом наконец поддался и, раздувая от ужаса бока и ноздри, тронулся вниз.
Две трети спуска они одолели беспрепятственно, но на последней трети конь поскользнулся, попытался было устоять на насте, но не смог: передние ноги у него разъехались, потом подогнулись, и он стремительно покатился вниз, точно сани на русской горке, увлекая за собой хозяина, так и не выпустившего повода.
Они скатились на самое дно ущелья, и только благодаря случаю, а вернее, чуду, не пострадали – ни тот, ни другой.
Господин снова вскочил в седло с приятным, радостным чувством, впрочем, легко объяснимым, и направился прямиком к мельнице, собираясь дальше переправиться вброд через Бьен в том месте, которое указал ему Никола Паже, – напротив старой ивы.
Отыскав брод без особого труда, он был поражен тем, сколь точно мальчуган ему все описал: в том месте пенная стремнина едва доходила его коню до колен.
IV. Лепинассу, предводитель разбойников
Столь удачная переправа показалась нашему путнику добрым знаком, и он не колеблясь взобрался на другой берег реки, хоть и крутой, но вполне одолимый, который переходил в противоположный склон ущелья.
Примерно с час ехал всадник по горному кряжу и опушке ельника, пока не поднялся на вершину, откуда в бледном свете луны разглядел кровли домов маленькой деревушки, разбросанной по склону лежавшей перед ним широкой и глубокой лощины.
То была деревня Лонгшомуа. Чтобы попасть туда, незнакомцу оставалось только спуститься вниз, что он и сделал без особого труда, поскольку тропинка, хоть и едва различимая, была пологая и свободная.
Чуть впереди, при въезде в деревушку, у опушки ельника, располагался дом, как две капли воды похожий на тот, что мы описали в прологе нашей книги, с тем лишь отличием, что огороженный сад располагался не вокруг него, а за ним. Дверь и окна дома выходили, таким образом, на дорогу.
Неизвестный путник выехал из непроницаемой тени скрывавших его, вместе с конем, густых еловых ветвей и оказался на открытом, а стало быть, освещенном пространстве, как вдруг услыхал леденящий душу звук и резко осадил коня.
В этом звуке слились воедино и бряцание оружия, и невнятный шепот; время от времени его монотонность нарушали отчетливые возгласы и проклятия. Железный скрежет, шепоты и крики исходили как будто из того самого дома, расположенного шагах в сорока-пятидесяти. В обоих его окнах играли яркие блики.
В те времена, когда происходили описываемые нами исторические события, довольно было услышать и это, чтобы догадаться: в доме творится что-то ужасное, грозящее близкой смертью.
Всадник призадумался, не зная что делать, и решил было повернуть обратно, тем более что с его стороны было бы крайне безрассудно ввязываться очертя голову в опасный переплет, даже не представляя себе что к чему.
И он, конечно, повернул бы обратно, если бы не случилось то, что пригвоздило его к месту.
Высокий юноша, весьма изысканной наружности, чье лицо в лунном свете казалось прекрасным, мужественным и гордым, медленно и осторожно обойдя дом кругом, приблизился к одному из окон, откуда можно было заглянуть внутрь. Он застыл как вкопанный и стал прислушиваться, даже не подозревая, что за ним наблюдает наш незнакомец.
Через левую руку у него был переброшен плащ, а в правой он держал широкую серую фетровую шляпу с черным пером; он снял ее, чтобы лучше видеть и слышать. У юноши – поскольку он и впрямь был довольно молод – была красивая голова, которую вполне можно было бы сравнить с головой герцога д’Альбы[16], увековеченного кистью Тициана. Его густые черные волосы локонами ниспадали на плечи; шелковистые черные усы обрамляли рот с подвижными, резко очерченными губами, открывавшими иногда сверкающие зубы. Кожа у молодого человека была не бледная – скорее смугловатая, с теплым оттенком, как у испанца из Севильи или Гранады; на выпуклом лбу проступала крупная вена, пересекавшая его от левой брови до кромки волос. Глаза, очень большие и яркие, казалось, сверкали из глубины глазниц под сильно выступавшими надбровными дугами.
Мы уже упоминали об изысканной наружности новоявленного героя. Однако изящество отнюдь не исключало крепости. Стройная фигура юноши расширялась в груди и плечах – восхитительные пропорции говорили о заключенной в нем недюжинной силе.
На юноше были короткие, облегающие штаны черного сукна, прикрытые до середины бедер голенищами из мягкой кожи, они плотно обтягивали ноги, как бы подчеркивая их безупречную стройность, и спускались к башмакам на толстой кованой подошве. Камзол, такой же черный, как и штаны, был подпоясан кожаным ремнем, на котором висели короткий кинжал и длинноствольные пистолеты. Наконец, на черной кожаной портупее у юноши висела шпага, довольно длинная и тяжелая, с головкой эфеса в виде креста.
Понятно, что описанный нами герой стал свидетелем драматической сцены, дошедшей до своего апогея: на его взволнованном лице читались самые сильные, самые тягостные чувства.
Время от времени он вдруг натягивал шляпу обратно на голову, а руки его ложились на рукоятки пистолетов. При этом его насупленные брови сходились на лбу в форме зловещей подковы, как у героя «Редгонтлета»[17], а глаза вспыхивали мрачным огнем; но уже через мгновение он снова льнул к окну, лихорадочно, со все возрастающим вниманием прислушиваясь к происходящему по ту его сторону.
Между тем наш путник, притаившийся в тени елей, можно сказать, переживал те же самые чувства, что со всей полнотою отражались на замечательном лице черноволосого юноши, и даже проникся к нему внезапной, странной симпатией, объяснимой, впрочем, открытостью, отвагой и поистине рыцарской преданностью, запечатленными в его чертах.
Вдруг дом огласился ужасно пронзительным, дрожащим криком – криком предсмертной муки.
В тот же миг отблески света в окнах полыхнули необычайно ярко.
За зловещим криком последовала скорбная тишина. Но длилась она недолго.
Черноволосый юноша наконец решился.
Левой рукой он взялся за пистолет, а правой выхватил шпагу из ножен и, отступив на три-четыре шага назад, для большего разбега, ринулся в окно, рамы которого с треском сломались, а стекла разлетелись на множество осколков; в следующее мгновение он уже скрылся в доме.
Вслед за столь неожиданным вторжением тотчас послышался оглушительный гвалт, сопровождавшийся отборной бранью, яростными воплями, пистолетными выстрелами и свистом шпаги, безжалостно рассекавшей плоть и дробившей кости.
* * *А произошло вот что.
За полчаса до случившегося, в первой из двух комнат дома, принадлежавшего, прямо скажем, Жан-Клоду Просту, или, если угодно, капитану Лакюзону, на табурете у камелька, затопленного кореньями, сидел человек лет сорока, маленький и на редкость уродливый, медленно перебиравший четки длинными, узловатыми пальцами.
Этот человек, болезненного вида крестьянин, не способный ни к какому труду, нашел приют и хлеб по милости Лакюзона, проникшегося к нему полным доверием и вверившего его попечению свой дом, где сам он бывал крайне редко.
Человека этого звали Бродягой.
Конечно, бесконечные десятки бусин четок, которые он благоговейно перебирал пальцами, производили на Бродягу усыпляющее действие, ибо веки его мало-помалу налились тяжестью, глаза закрылись, голова, клонившаяся то на одно плечо, то на другое, в конце концов упала на грудь, а четки в это же самое время выскользнули из рук. Он засыпал.
Однако сильный стук в дверь внезапно вырвал его из сладостных объятий дремы.
– Кто там еще? – неуверенно спросил он и, поднявшись с табурета, направился к двери.
– Друг, – отвечали снаружи. – Октройте!
– У друзей есть имена, – возразил он. – Назовитесь, тогда открою.
– Вы меня не знаете, – отозвался снаружи голос, – я от капитана…
– Моего хозяина?
– Да.
– Тогда скажите пароль.
– Капитан называл его, да только я позабыл.
– Тем хуже для вас, я вам не открою, и ступайте своей дорогой.
– Говорю, мне нужно войти, тем более что капитан Лакюзон в опасности и я прибыл от его имени.
Столь решительный ответ поколебал решимость Бродяги.
Однако, прежде чем отворить дверь, он снял ее со старенького крючка, прибитого к стене парой гвоздей.
– Предупреждаю, – сказал он, берясь за щеколду изнутри, – предупреждаю, я вооружен. И ежели вы меня обманули, ежели пришли не от хозяина, вам несдобровать.
– Хорошо… хорошо, – последовал ответ, – договорились. Открывайте же скорей!
Лязгнула щеколда – и дверь отворилась.
В следующий миг в дом с невероятной стремительностью ворвалось человек восемь разбойничьей наружности, вооруженных до зубов и, на манер бретонских крестьян, облаченных в козьи шкуры поверх камзолов серого сукна.
Трое из них набросились на Бродягу, и уже через полминуты бедолага был разоружен, а руки его были скручены за спиной.
– Серые!.. – понуро проговорил он. – Пресвятая Дева Мария, это ж серые!
– Слово-то какое, старый плут! – отвечал человек громадного роста, настоящий Геркулес, видимо, главный над остальными.
Лицо у него было безобразным. Правую щеку, от уголка глаза, до нижней челюсти рассекал шрам, казавшийся глубокой фиолетовой складкой. Саблей же у него была отсечена и часть верхней губы, за которой проглядывали редкие острые зубы, как у хищного зверя.
Две страшные раны, полученные в прошлых стычках, служили своего рода характерной приметой этого человека, и даже дети по всей провинции знали, у кого такое лицо – со шрамом на щеке и изуродованной губой.
Потому-то Бродяга, глянув на говорившего, выкрикнул, а вернее, с хрипом выдавил одно единственное слово: «Лепинассу!»
То был и впрямь грозный Лепинассу – чудовище, у которого даже не было человеческого лица; это он на пару с другим разбойником – Чернявым – командовал шайками наймитов из Бресса и Бюге.
Услыхав, как Бродяга произнес его имя, Лепинассу изобразил жуткую ухмылку, горделивую и самодовольную, при этом его уродливая, рваная губа поднялась вверх.
– Ха-ха! – оскалился он. – Никак, признал меня… что ж, отлично… это облегчает дело, и я тому рад, тем более что время не терпит.
И, обращаясь к своей братии, он со зловещей усмешкой прибавил:
– Эй, вы там, затворите-ка дверь, или не видите, что мне нужно поболтать с этим славным малым?
Серые повиновались.
Лепинассу подсел к камельку, расположившись на том самом табурете, с которого только что поднялся Бродяга.
Он бросил шляпу со вздернутыми полями на длинный стол, стоявший посреди комнаты и, проведя рукой по своей пышной седеющей шевелюре, сказал крестьянину:
– Подойди-ка!
Но Бродяга не мог и шагу ступить: горемыка стучал зубами, ноги у него подкашивались – от страха он был ни жив ни мертв.
Тогда двое бандитов подхватили его под руки и грубо подтолкнули к Лепинассу.
Бродяга пошатнулся, точно пьяный, и, не устояв, повалился на колени.
– Лучшего положения перед тем, как отдать душу дьяволу, не придумаешь! – воскликнул великан. – А именно это и ждет тебя, если не будешь быстро и четко отвечать на вопросы, которые я собираюсь тебе задать.
– Мне ничего не ведомо, – удрученно проговорил крестьянин. – Можете не спрашивать, я навряд ли вам что скажу.
– Ах, выходит, ты ничего не знаешь!
– Нет, головой клянусь.
– Голова твоя сейчас мало чего стоит, да и клятва тебе едва ли что даст. Как звать-то тебя?
– Бродяга.
– Что ж, Бродяга, предупреждаю тебя, если ты и дальше будешь тянуть с ответами на мои вопросы, у меня найдется верный способ освежить тебе память. А чтобы ты скорей вспомнил все, что мне нужно, мои люди перешибут тебе шпагами хребет, так, что горб твой врастет обратно в спину. А потом, когда я возьму нож, чтобы перерезать тебе глотку от уха до уха, уж будь уверен, язык у тебя развяжется сам собой.
Бродяга понуро огляделся кругом и повторил:
– Ничего я не знаю…
– Сейчас поглядим. Здесь есть тайник с деньгами. Где же он?
– Деньги… да откуда же им тут взяться? В доме пусто, хоть шаром покати… хозяин-то мой бедней церковной мыши.
– Зато местные дворяне богаты и ссужают его деньгами на борьбу с нами, уж мы-то знаем. Так где же эти денежки?
– Не знаю.
– Ах, не знаешь, тогда я сейчас тебе помогу вспомнить. Другой вопрос: где Лакюзон?
– Не знаю.
– А Варроз?
– Не знаю.
– А Маркиз?
– Не знаю.
– Стало быть, – заметил Лепинассу добродушным голосом, похожим на ласковое мурлыканье тигра, – ты и впрямь ничегошеньки не знаешь?
– Да ничего… ничего я не знаю!
– Неужели?
– О да… да, верно говорю. Клянусь Девой Марией, ничего я не знаю!
Лепинассу подал знак.
Один из его подручных, с обнаженной шпагой в руке, подошел к Бродяге и сунул острие клинка ему за ворот, между плеч, отчего крестьянин хрипло вскрикнул.
– Вы только поглядите… – угрожающе усмехнулся Лепинассу, – поглядите на этого взбесившегося пса! С него еще шкуру не успели содрать, а он уже воем воет!
В самом деле, шпага разбойника всего лишь распорола Бродяге камзол – от ворота до пояса, но, почувствовав леденящее прикосновение стали, бедолага решил, что ему распороли кожу.
– Посмотрим, что этот старый бирюк запоет совсем скоро, – продолжал Лепинассу.
Из-под распоротой пополам одежды, сползшей на пол с левого и правого плеча Бродяги, показались тщедушные плечи крестьянина и выступающий между ними горб.
При виде такой картины серых охватил приступ неподдельной радости – они тут же принялись обмениваться веселыми шутками.
– Ей-богу, – проговорил вожак, присоединяясь к общему веселью, – вот так урод! Это ж сущее милосердие – выпрямить такой хребет, кривой, как виноградная лоза. Так сделайте же столь благое дело, братцы! На том свете сие вам, как пить дать, зачтется.
Едкая шутка предводителя возымела бешеный успех у серых, и впрямь больших охотников до всяких остроумных выходок.
Обнажив шпаги, они обступили полукругом Бродягу и стали ждать сигнала вожака.
– Полагаю, наш простофиля, – заметил он крестьянину, – не преминет нас предупредить, когда к нему вернется память.
И, обращаясь уже к подручным, продолжал:
– Ну же, братцы, не подкачайте!
Тут одна шпага вскинулась и опустилась… потом другая, за нею третья – и так до тех пор, пока все семь клинков поочередно не обрушились плашмя на смуглую, точно пергамент, кожу несчастного; дальше все повторилось сызнова…
Вскоре каждая шпага оставляла по синеватому рубцу на коже… вскоре каждый клинок, отрываясь от плоти, взмывал вверх с ошметком кожи.
Бродяга сдавленно кричал, извиваясь змеей, будучи не в силах подняться с колен.
А Лепинассу меж тем все твердил:
– Так где же деньги? Где Лакюзон? Варроз? Маркиз?
Бродяга сквозь стоны отвечал одно и то же:
– Почем я знаю…
Тогда Лепинассу, снова обращаясь к серым, говорил:
– Давайте, братцы, валяйте дальше! Сами видите, горбище у него как торчал, так и торчит, а памяти как не было, так и нет.
И шпаги опять то вскидывались, то опускались с дьявольской методичностью и ужасающей скоростью.
Через мгновение сухие, свистящие удары, с каким шпаги мучителей обрушивались на спину жертвы, сменились другим звуком: теперь казалось, будто клинки хлестали по жиже, и после каждого удара она взрывалась красными брызгами, так, что серые, без устали лупившие по багровому месиву то левой рукой, то правой, едва успевали смахивать капли крови со своих лиц.
Бродяга уже не кричал. Члены его свело судорогой. Глаза дико завращались в глазницах. И он ничком рухнул на пол.
V. О черноволосом юноше и белокуром молодом человеке, а также о правосудии капитана Лакюзона
– Черт возьми! Вот дьявол! – проговорил Лепинассу. – Не дай бог, он издох – это не входит в мои планы.
Но мгновение подумав, он прибавил:
– Да брось! Разве от такой малости подыхают? Наш плут, похоже, в обмороке, а может, притворяется… сейчас мы приведем его в чувство.
Следующий жест вожака объяснил его подручным точный смысл только что сказанных им слов. Главарь шайки указал на оцепенелое тело Бродяги и потом на стол, где лежала шляпа Лепинассу с тонким золотым галуном, служившим знаком начальнического отличия.