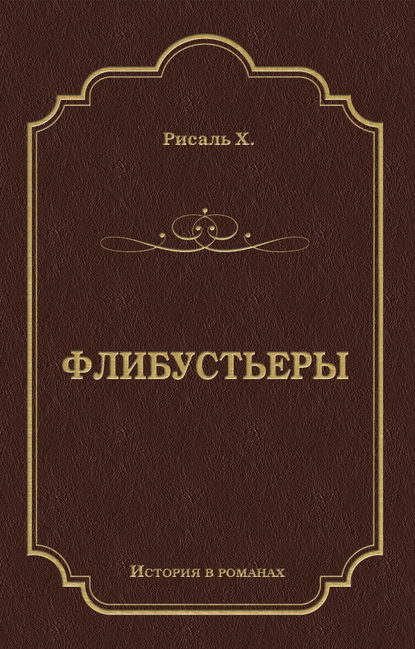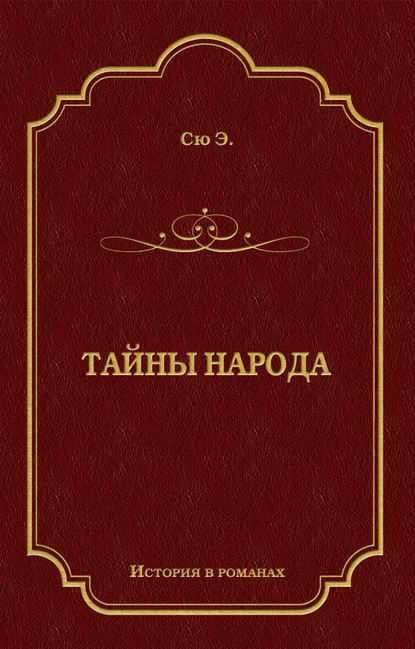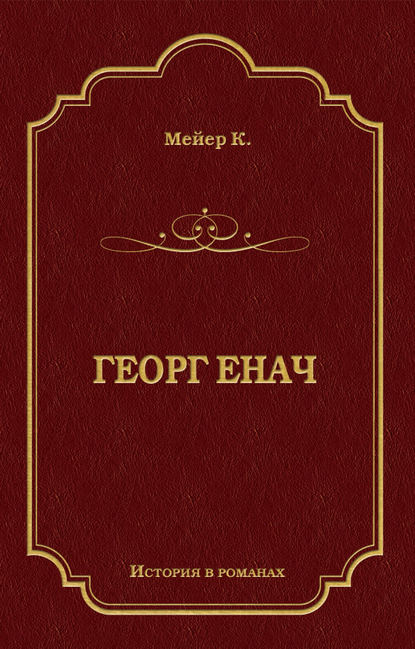Полная версия
Кадис
– В Кадисе вас дожидается красивая девушка. Может, даже не одна, а несколько.
– Одна-единственная. Остальные ничего не стоят. Сеньор де Арасели, ее душа необъятна, как это море. Никто не знает ее лучше, чем я, ведь с первого взгляда она кажется скромным цветком, затерянным в саду. Я открыл ее и отыскал в ней то, что не всякому дано понять. И вот для меня одного сверкают молнии ее глаз и бушует буря в ее груди… Она окружена чарующей тайной; ее сторожат, как пленницу в темнице, от этого моя любовь к ней еще пламеннее.
Если бы мой разум не властвовал над моими порывами, я бы схватил лорда Грея и кинул его в море… Вместо этого я задал ему тысячу вопросов и, пытаясь вызвать на откровенность, перечислил десятки имен, но больше не услышал от него ни единого слова. Разрешив мне на миг заглянуть в свое озаренное счастьем сердце, он умолк, его уста сомкнулись, как могила.
– Вы счастливы? – спросил я наконец моего спутника.
– В это мгновение – да, – ответил он.
Я снова испытал неодолимое желание швырнуть его в море.
– Лорд Грей! – воскликнул я внезапно. – Давайте поплаваем.
– Как? Вы тоже?
– Да, со мной происходит то же самое, что недавно происходило с вами. Меня влечет к себе море. Давайте бросимся в его волны.
– Вы с ума сошли, – ответил он, смеясь и обнимая меня за плечи. – Нет, я не разрешу моему доброму другу так безрассудно погибнуть. Жизнь прекрасна, и тот, кто думает иначе, безумец. Вот мы и в Кадисе. Дядюшка Игадос, подлейте-ка масла в светильник, мы подъезжаем к таверне Поэнко.
Мы добрались до Кадиса в сумерки. Лорд Грей привез меня к себе, где мы переоделись и сели ужинать. Вечером мы собирались к донье Флоре, впереди еще было достаточно времени, и мой друг, хотел я этого или нет, решил снова дать мне урок фехтования. Так, шутя, незаметно совершенствовался я в этом искусстве, в котором еще недавно не проявлял особого мастерства; в этот вечер мне удалось доказать, что ученик достоин своего учителя, – я с такой силой и точностью нанес противнику прямой удар, что не будь на шпаге наконечника, я насквозь пронзил бы англичанина.
– О, друг мой Арасели! – воскликнул с изумлением лорд Грей. – Вы делаете замечательные успехи и превращаетесь в опасного соперника. А кроме того, вы нападаете с такой яростью…
В самом деле, я делал выпады с небывалым ожесточением, словно задался целью отправить на тот свет моего учителя.
VВечером мы отправились к донье Флоре. Но не успели мы дойти до ее дома, как лорд Грей вдруг распрощался, пообещав скоро вернуться. В ярко освещенной гостиной было довольно пусто – еще не все гости успели собраться. Расставленные в соседней комнате ломберные столы ожидали страстных игроков с их кошельками, а три-четыре огромных подноса с яствами в следующей зале обещали гостям приятное подкрепление сил к концу вечера. Дам было мало, как и всегда на вечерах доньи Флоры, приглашавшей преимущественно мужчин и не более полудюжины почтенных красавиц прошлого века, подобных славным, но устаревшим крепостям, которые отнюдь не претендуют на то, чтобы их брали с бою. Амаранта была единственной представительницей молодости и красоты.
Я приветствовал графиню, когда ко мне подошла донья Флора и, незаметно ущипнув за локоть, сказала:
– Нечего сказать, хорошо вы себя ведете, юный кабальеро. Почти месяц не показывались в доме. Мне известно, что вы развлекались у моста Суасо с плясуньями, доставленными неделю назад трактирщиком Поэнко… Прекрасное поведение! Я изо всех сил стараюсь увести вас с пагубного пути, а вы проявляете все больше склонности следовать по нему… Конечно, все мы знаем, что юности свойственны увлечения, но добропорядочные мальчики из хорошей семьи втихомолку предаются своим страстям и обществом серьезных и рассудительных особ дорожат больше, чем компанией девиц легкого поведения.
Графиня одобрила прочитанную мне нотацию и подкрепила ее язвительными остротами. Смягчившись, донья Флора повела меня во внутренние комнаты, чтобы угостить изысканными блюдами, предназначенными лишь для тесного круга друзей. Когда мы вернулись в гостиную, Амаранта сказала с грустью:
– С тех пор как донья Мария и маркиза запретили Инес посещать меня, мне кажется, будто на этих вечерах чего-то не хватает.
– Мы здесь отлично обойдемся без молодых девушек, а главное, без графини де Румблар, которая своим жеманством только портила всем настроение, – сказала донья Флора. – Никто не смел приблизиться к девушке, поговорить с ней, пригласить потанцевать или предложить ей мороженое. Оставим девушек. На моих вечерах я желаю видеть мужчин и только мужчин: поэтов, читающих свои стихи; щеголей, прекрасно осведомленных о парижских модах; журналистов, которые могут пересказать все, что напечатано за три месяца в газетах Антверпена, Лондона, Аугсбурга и Роттердама; генералов, от которых мы услышим о будущих битвах и победах; неунывающих депутатов, которые высмеют регентство, раскритикуют его политику и прочтут речи, заготовленные для открытия долгожданных кортесов[19].
– Я не верю в открытие кортесов, – сказала Амаранта, – ведь кортесы не больше чем простая церемония, и король прибегает к ним лишь по давней традиции. Но раз нынче нет короля…
– Все равно, кортесы должны открыться. Нам обещали кортесы, пусть нам их дадут. Это будет замечательное зрелище, друг мой. Соберутся выдающиеся проповедники, и за день мы услышим не меньше восьми, а то и десяти проповедей на политические темы; все станут судить-рядить, это как раз в моем вкусе.
– Кортесы состоятся, – подтвердил я, – на Острове уже красят и подновляют театр для заседаний.
– Как, разве в театре? А я думала – в церкви, – сказала донья Флора.
– Дворянство и священнослужители соберутся в церкви, – заметила Амаранта, – а городские депутаты – в театре.
– Нет, сеньоры, у нас будет всего одно сословие. Сперва думали собрать три, но потом решили, что одно – проще.
– Наверное, одних дворян.
– Нет, дорогая моя, одних священнослужителей, так будет лучше.
– Просто-напросто одних депутатов, сюда-то и войдут все сословия.
– Вы говорите, что заново отделывают театр? Это замечательно.
– Да, сеньора. Фризы окрашены в желтый и ярко-красный цвет – совсем как в ярмарочном балагане… Словом, очаровательно.
– Вот почему сеньор дон Педро и попросил нас смастерить пятьдесят желтых и ярко-красных одеяний, скроенных на старинный испанский лад и обшитых серебряным галуном.
– Как бы дон Педро и прочие чудаки не превратили кортесы и их депутатов во всеобщее посмешище, – сказала Амаранта. – У нас найдется немало безумцев, способных решительно все превращать в буффонаду.
Начался съезд гостей. Приехал Кинтана. Следом за ним Бенья[20] и дон Пабло де Херика[21].
Кинтана подошел к хозяйкам дома. Мне случалось видеть и слышать знаменитого поэта в Мадриде, на сборищах в книжных лавках, но я еще не имел удовольствия беседовать с ним. В ту пору он достиг большой славы и благодаря своим политическим статьям и воззваниям пользовался огромной популярностью среди пламенных патриотов. У него были резкие, грубоватые черты лица, темные волосы, живые глаза; мясистые губы и выпуклый лоб говорили о сильной воле и мужестве. Он редко смеялся, его движения, манера говорить, как и его произведения, были проникнуты суровостью. Может быть, эту суровость характера приписывали Кинтане читатели, успевшие познакомиться с его творчеством, так как к тому времени были напечатаны его главные оды, трагедии и некоторые «Жизнеописания». Наш Пиндар[22], Тиртей[23] и Плутарх[24] гордился своей ролью, и эта гордость проявлялась в его обхождении. Пылкий либерал с заметной склонностью к идеям французского или женевского философа[25], Кинтана был безраздельно предан Испании. Своим пером он принес делу свободы больше пользы, чем иные своей шпагой. И если бы идея свободы, которую он проповедовал со всей силой своего выдающегося мужественного таланта, если бы борьба за эту идею, говорю я, не перешла затем в другие руки и за нее не взялись другие – болтливые перья, судьба Испании оказалась бы нынче счастливее.
Более приятным обхождением, чем Кинтана с его напыщенностью и торжественной суровостью, отличался дон Франсиско Мартинес де ла Роса[26], который незадолго перед тем вернулся из Лондона и успел завоевать себе известность комедией «Что дает человеку чин», вызвавшей немало похвал в те простодушные времена. Никто – ни до этого, ни позднее – не был так приветлив, деликатен, чарующе учтив, любезен, никто не умел держаться так просто, без аффектации и слащавого жеманства, как Мартинес де ла Роса. Но я говорю здесь о человеке, которого все знают и чья долгая жизнь не испортила ни его характера, ни внешности. Каким вы видели Мартинеса де ла Роса примерно в 1857 году, таким он был и в молодости, конечно, если не говорить об ущербе, все же нанесенном временем. Его идеи претерпели некоторые изменения, зато неизменным остался характер, который, будучи цельным и положительным с юношеских лет, сохранил до старости присущую ему веселую приветливость.
Сам не знаю, почему мне захотелось уделить здесь столько внимания этому выдающемуся человеку, ведь его не было в числе гостей доньи Флоры в тот вечер, который я с такой радостью взялся описать. Зато были, как я уже упоминал, Херика и Бенья, поэты меньшего таланта и запомнившиеся мне лишь в общих чертах, очевидно потому, что их спорная слава и посредственный талант не привлекали в ту пору моего внимания. Кого я отчетливо помню, так это Арриасу[27], впрочем, отнюдь не потому, что льстивый тон его манерных стихов и колкость сатир пришлись мне как-то особенно по вкусу, но по той простой причине, что он то и дело повсюду попадался на глаза – в обществе, в кафе, в книжных лавках и на всякого рода собраниях. На вечер в доме доньи Флоры он пришел одним из последних.
После перечисленных гостей на пороге появился человек на вид лет пятидесяти, нескладный, сухопарый, высокий и прямой, точно шест. У него были черные, длинные, обвисшие, как у Дон Кихота, усы, тощие руки и ноги, волосы с проседью, орлиный нос на смуглом лице, а взгляд – то мягкий, то свирепый – менялся в зависимости от того, на кого он смотрел. Он держался с неуклюжей чопорностью. Но больше всего в этом странном человеке поражало его одеяние, пригодное скорее для карнавала; на нем были шаровары турецкого покроя, схваченные у колена, желтый колет, короткий ярко-красный плащ вроде тех, что носили в шестнадцатом или семнадцатом веке, высокие черные сапоги и шляпа с перьями, точь-в-точь как у альгвасила на арене во время боя быков; свисавшая с пояса длинная сабля, громыхая, волочилась по полу и создавала впечатление, будто ее обладатель шагает на трех ногах.
Читателю может показаться, что я рассказываю сказки; но откройте страницу истории, и вы найдете там красочное описание подвигов моего героя, которого я здесь называю доном Педро, чтобы не выставлять на посмешище, как он того заслуживает, носителя славного титула, украшавшего его достойных и разумных потомков. Он одевался именно так, как я это описал, да и не только он один питал в те времена пристрастие к старинной моде: я мог бы назвать здесь другого маркиза, кстати говоря, уроженца Хереса, и знаменитого Хименеса Гуасо[28], и шотландца по имени лорд Доуни – все они не отличались от моего дона Педро. Но, не желая наскучить читателю, представляя ему длинную вереницу подобных чудаков, я слил всех воедино и позволил себе собрать их характерные черты, дабы украсить ими лишь одного героя, бесспорно наиболее замечательного и выдающегося.
Появление дона Педро вызвало в гостиной взрыв хохота, но донья Флора немедля выступила на защиту своего друга:
– Не смейтесь, дон Педро прав, отдавая предпочтение старинному наряду. Ежели бы все испанцы, говорит он, взяли с него пример, то вслед за старинной одеждой вернулся бы старинный образ мыслей, а там и образ действий, нам ведь только это и нужно.
Отвесив глубокие поклоны, дон Педро занял место рядом с дамами, скорее обрадованный, чем уязвленный оказанным ему приемом.
– Насмешки сторонников Франции, – сказал он, косясь на гостей, которые не сводили с него глаз, – философов-безбожников, атеистов, франкмасонов и «демократистов», замаскированных врагов религии и короля, меня не трогают. Всяк волен одеваться по своему вкусу; ежели французскому покрою, вошедшему у нас с недавних пор в моду, я предпочел наш национальный, ежели я опоясался мечом, который носил Франсиско Писарро[29] в Перу, то это означает, что я желаю остаться верным сыном Испании и носить наряд, который был принят у испанцев, пока к нам не пожаловали французишки с их галстуками, париками, пудрой, рыбьими хвостами на камзолах и прочей дрянью, которая лишает мужчину присущей ему суровости. Вы вольны сколько угодно потешаться над моим костюмом, но не над моей особой, ибо всем известно, что я этого не потерплю.
– Он превосходен, ваш наряд, – сказала Амаранта, – превосходен, и только люди с дурным вкусом станут высмеивать его. Сеньоры, ну можно ли быть хорошим испанцем, если не носишь одежды старинного покроя?
– Но, сеньор маркиз (дон Педро был маркизом, я просто не хочу называть здесь его полный титул), – добродушно произнес Кинтана, – зачем вам, человеку серьезному и почтенному, выставлять себя на потеху уличным мальчишкам? Неужто доброму патриоту нельзя вместо маскарадного костюма носить камзол?
– Французские моды развратили нас, – возразил дон Педро, поглаживая усы, – вместе с модами, париками и румянами к нам пришли фальшь, лицемерие, бесчестность, неверие, непочтительное отношение к старшим, брань, угрозы, наглость и бесстыдство, дерзость, воровство и ложь, а к этим порокам присоединились лукавое мудрствование, безбожие, демократизм, и, наконец, в довершение всех бед выдумали верховную власть нации.
– Ежели все эти беды пришли к нам с париками и пудрой, – заметил Кинтана, – так не думаете ли вы, что, надев на себя чудной наряд, мы с ними справимся? Поверьте, беды останутся с нами, а сеньор маркиз будет только смешить людей.
– Но ежели все станут поступать, как вы, дон Маноло, и, борясь с французами, перенимать их нравы и обычаи, мы пропадем.
– Если обычаи изменились, значит, время приспело. Мы воюем и должны воевать против неприятельской армии, как бы могущественна она ни была, но зачем идти против обычаев, порожденных временем? Готов дать обе руки на отсечение, коли у вас найдется хоть четверо подражателей.
– Четверо? – надменно протянул дон Педро. – Четыре сотни вступили в отряд «Крестоносцев Кадисской епархии». Правда, нам еще не удалось снабдить всех крестоносцев надлежащей формой, но пятьдесят, а то и шестьдесят старинных одеяний у нас уже имеется, и все благодаря усердию почтенных дам, одна из которых сейчас слушает меня. Мы надеваем наш наряд, сеньоры, не затем, чтобы шататься по кафе, безобразничать на улицах и печатать листовки, разжигая народные страсти и призывая к ниспровержению священных законов, и не затем, чтобы, открыв кортесы, суетными речами посеять смуту в стране, – наш долг велит нам выйти на борьбу и, сокрушив вольнодумство, поразить мечом врагов церкви и короля. Издевайтесь, в добрый час, над нашей формой, но помните – прогнав москитов, что жужжат по ту сторону канала Санкти-Петри, мы вернемся и выкроим для издателя «Патриотического еженедельника» французский камзол из его газетенки – то-то к лицу ему будет этот наряд.
Тут, весьма довольный своей шуткой, дон Педро от души расхохотался. Вслед за ним заговорил Бенья, такой же рьяный защитник старинного покроя одежды.
– Поверьте, это замечательная мысль. А дабы вы не усомнились в справедливости моих слов, прочту вам отрывок из «Листка» – я его наизусть выучил. «Другое косвенное, но вполне надежное средство для поддержания духа, – начал он, – состоит в том, чтобы вернуться к старинной испанской одежде. Невозможно представить себе, сколь благостно сие может отразиться на счастье народа. О вы, отцы родины, депутаты великого собрания! К вам обращаю я свой скромный глас. В вашей власти вернуть дни нашего былого процветания: облачитесь в одежды прадедов ваших, и весь народ последует сему примеру».
Это именно то, что несколько позднее писал не кто иной, как сеньор Бенья, поэт текущего дня, с которым я встретился в доме доньи Флоры. Он советовал отцам родины последовать примеру великого дона Педро и облечься в такое же смехотворное одеяние, на радость детворы и удивление прохожих. Хороши были бы Аргуэльес, Муньос Торреро[30], Гарсиа Эррерос[31], Руис Падрон[32], Ингуансо[33], Мехиа[34], Гальего, Кинтана, Торено[35] и прочие прославленные мужи, нарядись они в этот шутовской костюм!
Между тем Бенья был либералом и слыл разумным человеком. Впрочем, как либералы, так и приверженцы королевской власти с первых же своих шагов вели себя чрезвычайно нелепо.
Кинтана спросил дона Педро, уж не собираются ли «Крестоносцы Кадисской епархии» предстать в сем одеянии на открытии кортесов.
– Мне нет дела до кортесов, – отвечал дон Педро. – Но разве вы из тех чудаков, которые верят в эту забаву? Регентский совет полон решимости вывести войска на улицу и разогнать крикунов, требующих созыва кортесов. Дайте милым деткам поиграть с новой игрушкой.
– Регентский совет, – возразил поэт, – поступит так, как ему прикажут. Он смолчит и все стерпит. Не обладая прозорливостью сеньора дона Педро, предвижу, что нация окажется сильнее епископа Оренсе[36].
– Право, дон Мануэль, – сказала Амаранта, – суверенитет нации, который нынче изобрели, – вчера в доме Морла[37] пытались выяснить, что это такое, но никто так и не понял, – этот суверенитет нации, если его установить, приведет нас к революции наподобие французской с ее гильотиной и прочими злодеяниями. Как вы полагаете?
– Нет, сеньора, я в это не верю и не могу поверить.
– Пусть все что угодно устанавливают, лишь бы что-нибудь новое, – сказала донья Флора. – Не так ли, сеньор де Херика?
– Правильно, и долой религию, долой короля, долой все! – завопил дон Педро.
– Дайте нации власть на триста лет, – сказал Кинтана, – и мы увидим, совершится ли у нас столько же злодеяний, беззаконий и преступлений, как в предыдущие три века. Назовите мне хоть одну революцию, где бы мы видели столько зла и несправедливости, сколько было в правление дона Мануэля Годоя[38].
– Зато теперь, сеньоры, мы заживем отлично, – сказал насмешливо дон Педро. – Наступит золотой век, придет конец несправедливости, преступлениям, пьянству, нищете и всем другим бедам. Ведь нынче вместо Отцов Церкви у нас появились журналисты, вместо святых – философы, вместо теологов – безбожники.
– Сеньор дель Конгосто совершенно прав, – сказал Кинтана. – В мире не было зла, пока мы не принесли его на страницах наших дьявольских книг… Но все поправимо, стоит лишь нам вырядиться шутами.
– Как вы думаете, откроются в конце концов кортесы или нет? – спросила графиня.
– Да, сеньора, откроются.
– Кортесы не для испанцев.
– Это еще не доказано.
– Вы неисправимый мечтатель, сеньор дон Мануэль! Скоро сами увидите, какие замечательные сцены разыграются на заседаниях, я говорю – замечательные, чтобы не сказать позорные и ужасные.
– Позор и ужасы нам знакомы издавна, сеньора, не кортесы принесут нам их впервые в мирную и религиозную Испанию. Эскориальский заговор, возмущение в Аранхуэсе, постыдные события в Байонне, отречение короля-отца и королевы-матери, ошибки Годоя, чудовищная безнравственность двора, сделки, недостойный сговор с Бонапартом и нашествие врага, как логическое завершение сговора[39], – все это, моя дорогая сеньора, весь этот позор и ужас – разве их принесли нам кортесы?
– Но править должен король, а кортесам полагается по старому обычаю голосовать и молчать.
– Мы наконец смекнули, что король существует для народа, а не народ для короля.
– Как же, как же, – подхватил дон Педро, – король для народа, а народ для философов.
– Если с кортесами ничего не получится, – продолжал Кинтана, – виной тому будут коварство и бесчестие их недругов и глупость их друзей; ведь вся эта чепуха – одеваться по старинке и кощунственно превращать святые вещи в шутовство – слабость, одинаково присущая как тому, так и другому лагерю. Иные уже поговаривают о том, что депутатам следует одеваться подобно альгвасилам в день обнародования папской буллы[40], а другие предлагают все речи и дискуссии на заседаниях вести в стихах.
– Но это и в самом деле было бы чудесно, – заметила донья Флора.
– Конечно, – подхватила Амаранта, – ведь заседать будут в театре, вот и получилась бы полная иллюзия спектакля. Непременно приду на открытие.
– Я тоже обязательно приду, сеньор Кинтана. Закажите мне ложу и лорнет. Ложа, по всей вероятности, платная?
– Нет, мой друг, – съязвила Амаранта. – Нация бесплатно демонстрирует свои безумства.
– Мы вас зачислим в нашу партию, – сказал Кинтана с улыбкой.
– Нет, нет, мой друг! – возразила почтенная дама. – Я предпочитаю примкнуть к «Крестоносцам Кадисской епархии». С тех пор, как я прочла о том, что творилось во Франции, я побаиваюсь революционеров. Ах, сеньор Кинтана, как жаль, что вы превратились в философа и политического деятеля. Почему бы вам не писать по-прежнему стихи?
– Не такие нынче времена, чтобы заниматься стихами. Впрочем, взгляните на наших друзей – Арриаса, Бенья, Херика, Санчес Барберо[41] не дают передышки печатным станкам Кадиса.
Бенья и Херика беседовали в стороне от общества.
– Ах, друг мой! Мне невыносимо слушать это:
О Веллингтон, герой известныйИ бога Марса ученик чудесный!Нынешняя поэзия приводит меня в ужас. Лебеди умолкли, опечаленные страданиями родины, а вместо них закаркали вороны. А где же остались строки:
Бьет барабан —Скорее в бой!– Арриаса закончил прекрасную сатиру, – сказал Кинтана. – Сегодня он ее прочтет нам.
– Легок на помине, – заметила Амаранта при виде входящего в гостиную поэта-сатирика.
– Арриаса, Арриаса! – раздалось со всех сторон. – Прочтите же нам свою оду «К Пепильо»[42].
– Сеньоры, внимание.
– Это самое остроумное из всего, что написано на языке кастильцев.
– Доведись Пепе Бутылке познакомиться с вашей одой, он поспешил бы от одного сраму убраться восвояси.
Честолюбивого Арриасу весьма порадовал прием, оказанный детищу его вдохновения. Он прославился своими стихами-однодневками, пользовался широкой популярностью и не заставил себя долго упрашивать: вытащив из кармана объемистую рукопись и став посреди гостиной, он прочел весьма острые стихи, которые вам, без сомнения, известны. Они начинаются так:
Прославленному сеньору Пепе, королю Испании (в мечтах) и властителю Индий[43] (в воображении)
Посажен нам король на диво —Вино глушит и тянет пиво.Привет тебе, Пепильо, друг веселья,Ты поощряешь наше виноделье.Чтение оды то и дело прерывалось рукоплесканиями, поздравлениями, похвалами, любо было смотреть, как словно по волшебству исчезли все разногласия, слившись в единодушном насмешливом презрении к навязанному нам королю. Порой казалось, что даже величественный дон Педро и дон Мануэль Хосе Кинтана понимают друг друга.
Ода к Пепильо ходила в списках по всему Кадису. В 1812 году автор подправил ее и опубликовал.
Затем общество разделилось. Политические деятели составили свой кружок, а значительная часть гостей устремилась в соседнюю комнату к ломберным столам.
Амаранта и графиня остались на месте, дон Педро, как галантный кавалер, не покидал их ни на минуту.
VI– Габриэль, – обратилась ко мне Амаранта, – тебе непременно надо заменить свою форму французского покроя на испанскую по примеру нашего друга. Кроме одежды, орден «Крестоносцев Кадисской епархии» имеет еще то преимущество, что его участники вольны присвоить себе то звание, которое им больше по душе, – так, например, дон Педро украсил себя поясом генерал-капитана.
В самом деле, дон Педро дель Конгосто, не размениваясь на мелочи, присудил себе собственной властью высшее военное звание.
– Всяк должен сам о себе заботиться, – заявил без лишней скромности наш герой, – другим до нас нет дела. Что же касается желания юного кабальеро вступить в наш орден – в добрый час. Но знайте, что мы ведем аскетический образ жизни и спим на голых досках, а под голову вместо подушки кладем камень. Так мы закаляем себя для тягостей войны.
– Это прекрасно, – подтвердила Амаранта, – а если к этому еще прибавить воздержание в пище, ограничив ее двумя облатками в день, то все вы, несомненно, станете лучшими солдатами в мире. Итак, Габриэль, наберись мужества и вступи в орден «Крестоносцев Кадисской епархии».
– Я охотно сделал бы это, сеньоры, но не чувствую себя в силах выполнять столь суровые правила. Для «Крестоносцев Кадисской епархии» нужны мужи, исполненные веры и прочих добродетелей.
– Превосходно сказано, – торжественно изрек дон Педро.
– Постой, дружок, – подхватила лукавая Амаранта, – но ведь истинная причина твоего отказа вступить в достославный орден кроется не столько в твоем малодушии, сколько в том, что страстная любовь при полной взаимности пьянит и туманит твой рассудок. Орден не принимает в свои ряды влюбленных, не так ли, сеньор дон Педро?