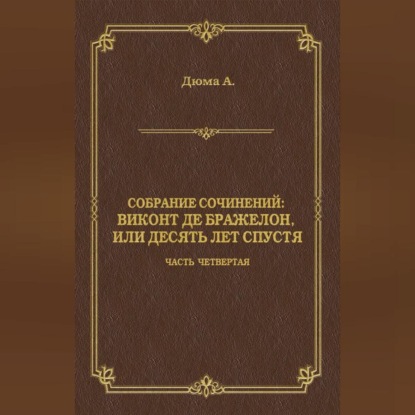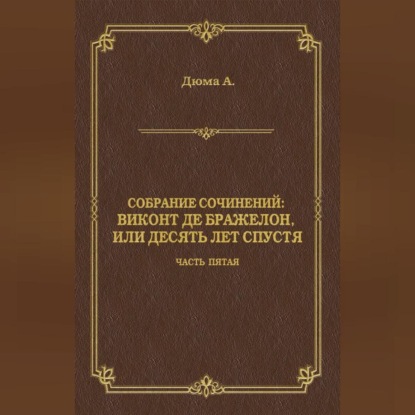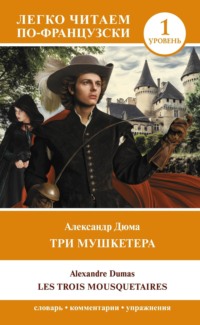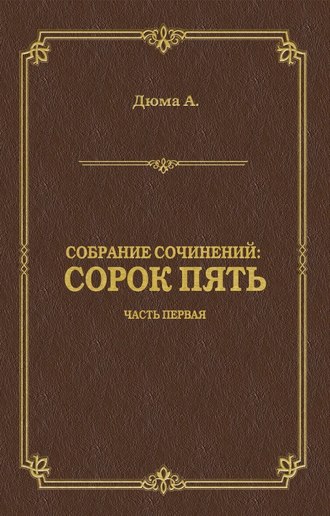
Полная версия
Сорок пять. Часть первая

Александр Дюма
Сорок пять. Ч. 1
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», комментарии, 2009
Часть первая
I
Ворота Сент-Антуан
Двадцать шестого октября 1585 года ворота Сент-Антуан у заставы в Париже в половине одиннадцатого утра были против обыкновения еще закрыты. В три четверти одиннадцатого из-за угла улицы Мортельри показался отряд из двадцати швейцарцев – то были преданнейшие друзья короля Генриха III[1]. Отряд направился прямо к воротам, они пропустили его и опять сомкнулись. Выйдя за ворота, швейцарцы выстроились вдоль живых изгородей, тянувшихся по обеим сторонам дороги. Одного появления отряда оказалось достаточно, чтобы заставить податься назад значительную толпу, состоящую главным образом из окрестных крестьян и мещан, – они надеялись попасть в город до полудня, но обманулись в своих ожиданиях: ворота, как уже было упомянуто, оказались закрыты.
Если справедливо, что всякая толпа неминуемо и естественно приносит с собой беспорядок, – видимо, тот, кто снарядил к воротам Сент-Антуан целый отряд, имел в виду предотвратить саму возможность нарушения порядка.
Толпа образовалась в самом деле очень значительная: по трем скрещивавшимся у ворот дорогам то и дело подходили и подъезжали монахи из предместий, женщины на ослах, крестьяне на телегах, и вновь прибывшие беспрерывно ее увеличивали. Отовсюду раздавались восклицания, сыпались настойчивые расспросы, сливавшиеся в непрерывный басовый гул, из которого иногда выделялись голоса, разражавшиеся угрозами и жалобами в более высоком регистре. Помимо этого множества приезжих, жаждавших попасть в город, у ворот можно было заметить несколько самостоятельных кружков, состоявших из лиц, вышедших, по-видимому, из города. Все они, вместо того чтобы стараться разглядеть сквозь закрытые ворота, что происходит на парижских улицах, с таким страстным вниманием и нетерпением пожирали глазами открывавшийся перед ними горизонт между монастырем якобинцев[2], Венсенской обителью и Робенским крестом, будто на одной из этих трех веером раскинувшихся дорог вот-вот появится посланник с небес.
Эти небольшие группы очень напоминали спокойные островки, окруженные со всех сторон бурливыми речными водами, что виднеются местами на середине Сены: волны порой отрывают от островка то клочок земли с травой, то перегнивший древесный ствол, и он, покачавшись на волнах, уносится по течению. Группы эти – мы к ним упорно возвращаемся, ибо они заслуживают полного нашего внимания, – состояли главным образом из парижских обывателей, предусмотрительно позаботившихся одеться потеплее, так как погода (мы забыли упомянуть об этом) была холодная, дул резкий ветер, и густые, низко нависшие над землей тучи, казалось, задались целью сорвать с деревьев печально качавшиеся последние желтые листья.
Трое из горожан разговаривали между собой, или, вернее, двое разговаривали, а третий слушал. Но всего яснее мы выразим нашу мысль, если оговоримся, что он, по-видимому, даже и не слушал, – так велико было внимание, с которым он вглядывался в ведущую на Венсен дорогу. Остановимся же на нем первом и опишем его наружность.
Он, вероятно, отличался высоким ростом, когда стоял выпрямившись, но в данную минуту его длинные ноги, с которыми он, казалось, не знал, что делать, когда не употреблял их по прямому назначению, были подогнуты, а руки, не уступавшие длиной ногам, сложены крест-накрест на груди. Незнакомец прислонился спиной к частой, заросшей колючим кустарником изгороди, и хотя она наполовину прикрывала его, он с упорством, весьма походившим на осторожность человека, не желающего быть узнанным, закрывал лицо широкой ладонью, оставив на свободе только один глаз, который зорко выглядывал между указательным и средним пальцами руки, раздвинутыми ровно настолько, чтобы не пропустить ничего, достойного внимания наблюдателя.
Рядом с этим странным субъектом стоял на насыпи какой-то низенький человек и беседовал с толстяком, примостившимся тут же сбоку, и, по-видимому, в очень неустойчивой позиции, так как то и дело скользил, цепляясь при этом каждый раз за пуговицу куртки своего собеседника. Эти-то двое горожан и составляли вместе с прислонившимся к изгороди незнакомцем каббалистическое число «три», отмеченное нами выше.
– Да, дружище Митон, – говорил низенький толстяку, – повторяю вам: у эшафота Сальседа соберется по меньшей мере стотысячная толпа. Если и не считать всех, кто уже находится на Гревской площади, и всех, кто еще понабежит туда из других кварталов, – взгляните на толпу у одних этих ворот… А ведь ворот-то всех шестнадцать – не забудьте этого!
– Ну, сто тысяч – это вы слишком, Фриар, – отвечал толстяк. – Многие, поверьте, последуют моему примеру и вовсе не пойдут глядеть на четвертование несчастного Сальседа из боязни беспорядков – и будут правы.
– Э, Митон, Митон, берегитесь! – перебил его низенький. – Послушаешь вас – так будто вы занимаетесь политикой. Ручаюсь – ничего не будет! Не правда ли, сударь? – продолжал он, видя, что его собеседник с сомнением качает головой, и обернувшись на этот раз к длиннорукому и длинноногому незнакомцу, – тот уже перестал смотреть в сторону Венсена, а, повернувшись в четверть оборота и отняв руку от лица, избрал теперь пунктом для наблюдения ворота и заставу.
– Что вы сказали? – Казалось, до его слуха долетели только последние обращенные к нему слова, весь же предыдущий разговор двух горожан пропал для него бесследно.
– Я говорю, сегодня на Гревской площади ничего не будет.
– Вы, по-моему, ошибаетесь: там будут четвертовать Сальседа, – спокойно возразил длинноногий незнакомец.
– Ну да, конечно. Я о другом – что при этом не будет шума…
– Нет, и шум будет: от ударов кнута по лошадям.
– Вы меня не понимаете. Под шумом я разумею народное волнение. Вот я и говорю: беспорядков никаких на Гревской площади не будет, в противном случае король не велел бы отделать ложу в городской ратуше, чтобы лично, вместе с обеими королевами и двором, присутствовать при казни.
– Да разве короли когда-нибудь осведомлены об имеющих быть беспорядках? – Длинноногий и длиннорукий незнакомец пожал плечами с выражением безграничного презрения и жалости.
– О-о! – наклонился господин Митон к уху приятеля. – Странная у этого типа манера выражаться. Вы с ним знакомы?
– Не-ет…
– Так зачем же говорите с ним?
– Просто чтобы поговорить.
– Напрасно – видите, ведь он от природы не очень-то разговорчив.
– Ну а мне все же сдается, – продолжал Фриар настолько громко, что слова его не могли не долететь до длиннорукого незнакомца, – что обмен мыслями – одно из величайших благ жизни.
– С людьми знакомыми – совершенно верно, – уточнил господин Митон. – Но не с тем, кого не знаешь.
– Все люди братья… Так учит священник из Сен-Ле, – убежденно изрек Фриар.
– Были таковыми – в дни, давно минувшие. Ну а в наши времена сии родственные узы что-то ослабли, друг Фриар. Беседуйте со мной, коли у вас такая потребность разговаривать, а этого господина оставьте в покое: вид у него такой озабоченный…
– Да, но дело-то все в том, что с вами я знаком давно и знаю заранее, какой услышу от вас ответ. А незнакомец этот, может, поведает мне что-нибудь новенькое.
– Тсс! Он вас слушает!
– Тем лучше, если слушает. Вот потому, надеюсь, и ответит. Так вы полагаете, сударь, – обратился Фриар к незнакомцу, – что на Гревской площади будет сегодня шум?
– Я о том и не заикался.
– Я и не утверждаю, что вы это сказали. – Фриар постарался придать своему тону многозначительность. – Предполагаю только, что вы так думаете.
– А на чем вы основываете такую уверенность? Уж не колдун ли вы, господин Фриар?
– Как? Он меня знает?! – в полном изумлении воскликнул Фриар. – Откуда бы это?
– Да я ведь вас несколько раз называл по фамилии, приятель. – Митон пожал плечами с видом человека, которому стыдно перед незнакомцем за умственную ограниченность собеседника.
– Ах да, правда! – согласился Фриар, делая отчаянное усилие, чтобы понять данное ему объяснение, и действительно, благодаря этому усилию смекнув наконец, в чем дело. – Ну, так если он меня знает, стало быть, ответит мне. Так вот, сударь, – обернулся он к незнакомцу, – я потому полагаю о вас, что вы так думаете – ну, что на Гревской площади будет шум, – что, не думай вы этого, вы были бы там, а вы между тем здесь.
Построив такое умозаключение, Фриар даже вздохнул тяжело от крайнего напряжения всех умственных сил и логических способностей.
– Но раз вы полагаете обо мне обратное тому, что я думаю, – незнакомец сделал особенное ударение на словах Фриара, – то почему же вы-то сами, господин Фриар, не на Гревской площади? Вот уж, мне кажется, утешительное зрелище – друзья короля должны бы прямо рваться на площадь, давя друг друга. Но вы, может быть, ответите мне, что принадлежите не к приверженцам короля, а к друзьям господина де Гиза[3] и ждете здесь лотарингцев: они, по слухам, ворвутся в Париж и освободят господина де Сальседа?
– Нет, сударь! – с живостью возразил Фриар, по-видимому очень напуганный подобными предположениями незнакомца. – Нет, я жду свою жену, Николь Фриар, – она отправилась в монастырь якобинцев, при ней двадцать четыре скатерти, так как она имеет честь быть прачкой самого отца Модеста Горанфло, настоятеля монастыря. А что до беспорядков, о которых говорил мой приятель Митон и в которые я не верю, да и вы также, если судить по вашим словам…
– Эй, друг! – крикнул Митон. – Взгляните-ка, что творится!
Фриар взглянул по направлению вытянутого пальца приятеля: не довольствуясь воздвигнутой преградой в виде закрытой заставы, что и так сильно волновало умы, стали запирать и сами ворота. Когда же это было исполнено, перед рвом выстроилась часть швейцарцев.
– Как, как?! – воскликнул, бледнея, Фриар. – Мало им заставы! Они еще и ворота запирают!..
– Ага! Что я вам говорил? – Митон тоже заметно побледнел.
– Забавно, правда? – Незнакомец смеялся, между усами и бородой сверкнул двойной ряд белых ровных зубов, по-видимому, превосходно отточенных благодаря привычке употреблять их в дело по крайней мере четыре раза в день.
При виде этой новой меры предосторожности в густой толпе, обложившей заставу, поднялся ропот удивления, раздались даже возгласы ужаса.
Повелительный окрик офицера: «Все назад!» заставил верховых и сидящих в повозках попятиться; отдавленные ноги и помятые ребра стали результатом этого приказа. Крики женщин, ругательства мужчин… Кто мог – пустился бежать, натыкаясь на тех, кто впереди, и падая.
– Лотарингцы! Лотарингцы! – крикнул кто-то среди всеобщего смятения.
Самый душераздирающий вопль, какой только может вырваться у человека в минуту смертельного ужаса, не произвел бы такого быстрого и решительного действия, как одно это слово – «лотарингцы».
– Вот, вот, видите, видите?! – закричал, весь дрожа, Митон. – Лотарингцы, лотарингцы! Бежим!
– Бежать? Но куда? – растерялся Фриар.
– Сюда, через изгородь! – Митон уже раздирал себе руки о колючий кустарник, к которому так уютно прислонился незнакомец.
– «Через изгородь»! – повторил Фриар. – Это легче сказать, чем исполнить. Я не вижу никакого прохода, а вы, надеюсь, не собираетесь перелезать через эти кусты, которые выше меня?
– Постараюсь, постараюсь, – отвечал Митон и тут же стал изо всех сил осуществлять свое намерение.
– Эй, осторожнее, голубушка! – закричал Фриар – в голосе его звучало отчаяние человека, начинающего терять голову. – Ваш осел вот-вот отдавит мне ноги! Уф, господин всадник, полегче, а то ваша лошадь меня лягает! Черт возьми, да-да, вы, на повозке! Вы мне заехали в бок оглоблями, приятель!
Между тем как господин Митон выбивался из сил, пытаясь ухватиться за изгородь и перелезть через нее, а Фриар тщетно разыскивал какую-нибудь лазейку, чтобы воспользоваться ею для той же цели, незнакомец выпрямился во весь рост, раздвинул, как два острия циркуля, свои длинные ноги и одним спокойным движением, будто собирался занести ногу в стремя, так ловко перешагнул через изгородь, что ни один сучок не зацепился за его платье.
Митон последовал его примеру, разодрав себе одежду в трех местах. А несчастный Фриар, видя полную невозможность для себя как пролезть снизу, так и перелезть через верх изгороди и сознавая, что ему все более грозит опасность быть раздавленным толпой, ограничивался тем, что испускал пронзительные вопли.
Тогда незнакомец протянул свою длинную руку, крепко ухватил Фриара за воротник и, приподняв на воздух, перенес на другую сторону изгороди с такой легкостью, будто имел дело с ребенком.
– Ого-го! – произнес Митон, восхищенный таким зрелищем и проследив глазами за подъемом и спуском на землю своего приятеля Фриара. – Вы теперь похожи на вывеску гостиницы Авессалома.
– Уф! – Фриар почувствовал наконец под ногами твердую почву. – Пусть я похож на что угодно, но зато стою по эту сторону изгороди, да благословит Бог этого господина. О сударь! – продолжал он, приподнимаясь на цыпочки, чтобы взглянуть в лицо незнакомцу, которому он приходился много ниже плеча. – Как я вам благодарен! Вы истинный Геркулес, честное слово, слово Жана Фриара! Как ваше имя, как зовут моего спасителя, моего друга? – Добряк произнес последнее слово с горячностью, проистекавшей от избытка сердечной признательности.
– Меня зовут Брике, сударь, – отвечал незнакомец. – Робер Брике к вашим услугам.
– И вы уже оказали мне значительную услугу, господин Робер Брике, смело могу сказать. О, моя жена будет благословлять вас! Но, кстати, моя бедная жена! Боже мой, боже мой! Ее задавят в толпе! Проклятые швейцарцы – они только и годны на то, чтобы давить людей!
Фриар еще не успел договорить своего неодобрительного отзыва о швейцарцах, как почувствовал, что на плечо ему легла чья-то тяжелая, точно каменная, рука. Он обернулся, интересуясь узнать, кто этот дерзкий, позволивший себе такую вольность с ним. Рука принадлежала швейцарцу.
– Вы, верно, хотите, чтоб вас порядком поколотили, мой маленький дружок? – язвительно вопросил богатырского вида солдат.
– Ах! Мы окружены со всех сторон! – закричал Фриар.
– Спасайся, кто может! – поддержал Митон.
И оба пустились бежать взапуски и вскоре оставили далеко позади изгородь и длинноногого и длиннорукого незнакомца, а тот безмолвно провожал их насмешливым взглядом, пока они не скрылись из виду. Тогда он подошел к поставленному у изгороди швейцарцу.
– Что, приятель? Рука-то, кажется, у вас ничего себе?
– Да, рука как следует быть.
– Тем лучше: это очень важно, особенно если, как говорят, придут лотарингцы.
– Они не придут.
– Нет?
– Нет.
– Так почему же закрыли ворота? Не понимаю.
– Вам и не надо этого понимать. – И швейцарец, очень довольный своей остроумной шуткой, разразился раскатистым хохотом.
– Верно, совершенно верно, друг, спасибо. – Робер Брике невозмутимо передразнил немецкий акцент швейцарца и спокойно отошел, чтобы примкнуть к другой группе.
А достойный воин уже без смеха бормотал себе под нос:
– Кажется, он надо мной смеется… Черт возьми! Кто же он, что дерзает насмехаться над швейцарцем его величества?
II
Что происходило по ту сторону ворот Сент-Антуан
Внимание Робера Брике привлекла одна группа, состоявшая из значительного числа горожан, застигнутых вне городских стен врасплох неожиданным закрытием ворот. Горожане эти столпились около четырех-пяти всадников, отличавшихся весьма воинственной осанкой, которым, по-видимому, был крайне неприятен тот факт, что ворота заперты, так как они кричали изо всей силы легких:
– Откройте ворота! Ворота!
Крики эти яростно подхватывались толпой и сливались в общий адский шум и гул. Робер Брике приблизился к этой группе и принялся кричать громче всех:
– Откройте ворота! Откройте ворота!
Результат не замедлил сказаться: один из всадников, восхищенный силой его голоса, обернулся к нему и, поклонившись, заговорил:
– Ну разве не стыд, сударь, запирать среди бела дня городские ворота, точно Париж осажден испанцами или англичанами?
Робер Брике внимательно оглядел того, кто обратился к нему: лет сорока – сорока пяти; похоже, начальник тех нескольких всадников, что стояли рядом. Вероятно, этот осмотр внушил Роберу Брике доверие к говорившему – он ответил на поклон и откликнулся:
– Ах, милостивый государь, вы правы, десять, двадцать раз правы! Но, не желая показаться вам слишком любопытным, осмелюсь ли я спросить вас, чем, по-вашему, вызвана эта мера предосторожности?
– Черт возьми! – вмешался кто-то. – Очень просто: боятся, как бы у них не скушали их Сальседа.
– Незавидное кушанье, клянусь честью! – произнес чей-то голос.
Робер Брике обернулся в ту сторону, откуда раздался этот голос, произносивший слова с резким гасконским акцентом: молодой человек лет двадцати – двадцати пяти держал руку на крупе лошади; всадник на ней показался Брике главным над остальными. Молодой человек, вероятно, потерял шляпу в свалке – голова его была не покрыта.
Брике, по-видимому любитель производить наблюдения, но за очень короткое время, скоро отвел глаза от гасконца, вероятно сочтя его мало для себя интересным, и снова устремил взгляд на всадника, проговорив наконец:
– Но уж раз говорят, что этот Сальсед служит господину де Гизу, – не такой он невкусный кусочек.
– А-а! Разве так говорят? – подхватил с любопытством гасконец, моментально навострив уши.
– Ну да, конечно, говорят, – пожал плечами всадник. – Но мало ли какого вздора теперь не рассказывают!
– А! – Брике смотрел на него испытующим взором и насмешливо улыбался. – Так вы полагаете, что Сальсед не служил господину де Гизу?
– Не только полагаю, но совершенно уверен, – отвечал всадник и продолжал, видя, что Робер Брике сделал жест, означавший «А на чем вы основываете вашу уверенность?»: – Конечно, если бы Сальсед принадлежал герцогу, тот не допустил бы, чтоб его взяли, или, по крайней мере, не дал бы его привезти из Брюсселя в Париж скованным по рукам и ногам, не сделав ни малейшей попытки отбить и увезти его!
– «Отбить», «увезти»! – повторил Брике. – Это довольно рискованно. Ведь удайся эта попытка или нет, но раз она исходила бы от господина де Гиза, так он тем самым сознался бы, что затевает заговор против герцога Анжуйского[4].
– Господина де Гиза, – холодно ответил всадник, – я уверен, не удержало бы такое соображение, и раз он не требовал выдачи Сальседа и сам ничего не сделал для его спасения, значит, между Сальседом и ним ничего не было общего.
– А между тем – извините, что настаиваю, но не я это выдумал, – продолжал Брике, – есть сведения, что Сальсед наконец заговорил.
– Когда? На суде?
– Нет, не на суде, а под пыткой. Да разве это не все равно? – Робер Брике тщетно пытался придать себе наивный вид.
– Нет, конечно, не все равно, далеко не все равно. Ну хорошо, заговорил, но что именно он сказал – неизвестно?..
– Извините, сударь, – заметил Робер Брике, – и это известно во всех подробностях.
– Что же, что? – не скрыл нетерпения всадник. – Сообщите нам, если вы так хорошо осведомлены.
– Не могу этим похвастаться, сам желал бы получить от вас какие-нибудь сведения.
– К делу! – перебил его всадник. – Как вы утверждаете, в городе известно, что сказал Сальсед. Что же именно?
– Не могу ручаться, что по городу ходят его собственные слова. – Робер Брике явно находил удовольствие, раззадоривая собеседника.
– Но все же – какие слова ему приписывают?
– Говорят, он сознался, что принимал участие в заговоре в пользу господина де Гиза.
– Против французского короля, конечно? Вечно та же песня!
– Нет, не против его величества короля Франции, но против его высочества монсеньора герцога Анжуйского.
– Если он сознался в этом…
– То? – подхватил Робер Брике.
– То он негодяй! – Всадник нахмурил брови.
«Да, – про себя молвил Брике. – Но если он сделал то, в чем сознался, то он хороший человек».
– Ах, сударь, чего не заставят произнести честных людей «испанский башмачок», дыба и раскаленный горшок!
– Увы! Это великая истина! – Всадник слегка вздохнул, тон его смягчился.
– Э! – прервал его гасконец, который не пропустил ни слова из этого разговора, поворачивая голову то к одному из говоривших, то к другому. – «Испанский башмачок», дыба – все это такие пустяки! И если этот Сальсед что-нибудь сказал, то он негодяй и его покровитель таков же.
– Ого! – воскликнул всадник, не в состоянии сдержать негодования и делая порывистое движение всем корпусом. – Вы запели что-то очень громко, господин гасконец!
– Я?
– Да, вы.
– Я пою, как мне нравится, черт возьми! Тем хуже для тех, кому мое пение не по нраву.
Всадник сделал грозный жест.
– Спокойнее! – произнес чей-то нежный и вместе повелительный голос.
Кому он принадлежал – этого Роберу Брике не удалось узнать. Всадник старался, видно, совладать с гневом, но не сумел справиться с собой.
– А вы знаете тех, о ком говорите, милостивый государь? – спросил он гасконца.
– Знаю ли я Сальседа?
– Да.
– Совершенно не знаю.
– А герцога де Гиза?
– Точно так же.
– А герцога Алансонского?
– Еще менее.
– А известно вам, что господин де Сальсед – испытанный храбрец?
– Тем лучше – сумеет мужественно встретить смерть.
– Знаете ли вы, наконец, что, когда господин де Гиз задумывает какой-нибудь заговор, он сам работает над ним?
– Мне-то что до этого, черт возьми?!
– И что герцог Анжуйский, носивший прежде титул Алансонского, сам приказал умертвить или допустил убить всех, кто был ему привержен: Ла Моля[5], Коконнаса[6], Бюсси[7] и других?
– Ну и пусть себе! Мне-то что! А, провались они!
– Как так? – негодующе воскликнул всадник.
– Мейнвиль! Мейнвиль! – пробормотал тот же неведомо откуда исходивший голос.
– Конечно, провались они. Я знаю, черт возьми, только одно: что у меня есть дело в Париже сегодня утром, а из-за этого сумасшедшего Сальседа у меня под носом закрыли ворота. Черт возьми! Этот Сальсед – бездельник, как и все, из-за кого ворота заперты, когда должны быть открыты.
– Ого! Какой свирепый гасконец! – пробормотал Робер Брике. – Сейчас, верно, произойдет что-нибудь любопытное…
Но то любопытное, чего он ожидал, и не думало происходить. Всадник – ему вся кровь бросилась в лицо при последних словах гасконца – опустил голову и промолчал, подавив в себе гнев.
– Да, вы правы, – согласился он наконец. – Черт побери всех, кто мешает нам войти в Париж!
– Ого! – пробормотал себе под нос Робер Брике, от которого не ускользнули ни частые изменения лица всадника, ни двукратные, обращенные к нему призывы быть терпеливее. – Кажется, я увижу нечто еще более любопытное, чем ожидал.
Меж тем как он предавался этим соображениям, раздался звук трубы. Швейцарцы, энергично раздвинув толпу алебардами, разрезали ее, точно огромный паштет из жаворонков, на две части – они выстроились в линию по обеим сторонам дороги, оставив середину пустой. На оставшееся незанятым пространство въехал офицер, которому была поручена охрана ворот, и, вызывающе посмотрев на собравшихся, приказал трубить в трубы.
При первом же их звуке в толпе наступило глубокое молчание – такого, казалось, невозможно было и ожидать после царившего только что шума и бурного волнения. Тогда выступил вперед герольд в длинной, затканной лилиями тунике с гербом города Парижа на груди. Держа в руке бумагу, он прокричал характерным для всех глашатаев голосом немного в нос:
– «Сим извещаем наш добрый парижский народ и окрестных обывателей, что ворота будут заперты до часа пополудни, и до этого часа никто не войдет в город. Такова воля короля; исполнение ее вверено бдительности парижского мэра».
Прокричав это, герольд остановился перевести дух. Паузой воспользовались в толпе, чтобы выразить удивление и недовольство, – герольд, надо отдать ему справедливость, не моргнув глазом выдержал и продолжительные свистки, и ропот. Но вот офицер повелительно махнул рукой – и немедленно воцарилась тишина. Герольд продолжал, бесстрастно и не спеша, – долгий опыт выработал у него, как видно, привычку к подобной реакции:
– «Исключение будет сделано только для тех, кто предъявит условный знак, по коему его можно признать, или кто официально призван письмами или указами.
Дан сей в парижской ратуше, на основании особого указа его величества, двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года».
– Трубачи, трубите!
Сразу загремели раздирающие звуки труб. Едва герольд успел замолчать, как толпа позади выстроившихся шеренгой швейцарцев и солдат стала переливаться и заволновалась, извиваясь во все стороны, точно змея своими кольцами.