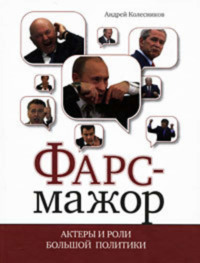Полная версия
Путин. Человек с Ручьем
Остальные журналисты до больницы не доехали и улетели в Москву «передовым бортом». Билета на рейсовый самолет у меня не было. Пресс-секретарь президента предложил помочь. Так я оказался на «основном борту».
Моим соседом был личный врач президента. Он рассказывал, что за пять лет не пропустил еще ни одной командировки президента и что ни в одной из них его помощь по серьезному поводу, к счастью, подопечному не потребовалась.
– Покушайте, – сказал он мне, – вы же, наверное, проголодались.
Профессионал определил это по каким-то, видимо, безоговорочным для него признакам. Я думаю, что скорее всего по моему взгляду на поднос с едой, который уже лежал передо мной на откидном столике. Но притронуться к еде я не успел. Меня позвали в соседний салон.
Там я увидел побогаче накрытый стол и президента страны. Он пригласил садиться. Всего нас было пятеро: он, я, его помощник, пресс-секретарь и шеф протокола.
Президент предложил выпить. Я отказался:
– Я не пью.
– Придется, – сказал он. – Не чокаясь.
Автокатастрофа, в которую попал Михаил Евдокимов, произвела на Владимира Путина, судя по всему, огромное впечатление. Их отношения не были только рабочими, президента и губернатора. Однажды господин Путин летал в Чечню и, когда возвращался на вертолете, предложил подвезти Михаила Евдокимова, который еще тогда не был губернатором и приехал в Чечню как артист. По дороге вертолет обстреляли. Так что Михаил Евдокимов был для Владимира Путина не чужим человеком.
– Странная история с этой аварией, – сказал Владимир Путин. – Почему все-таки у него не было сопровождения? Оно бы не позволило его машине идти с такой скоростью.
– Так сняли же сопровождение, – сказал я. – За несколько дней до аварии.
– Да я знаю, – ответил президент. – Меня интересует зачем.
Он так и сказал: не почему, а зачем.
– Ну, про это тоже все говорят в Барнауле, – сказал я. – Известно же, что у него с депутатами конфликт неразрешимый. Начальник УВД, говорят, поддерживал их.
– А вы знаете, что он последние три месяца вообще на Алтае не был? – спросил Владимир Путин. – Он просто не хотел, не мог он туда заставить себя поехать. Ему было морально тяжело.
– Весь Барнаул говорит, что его убили, – сказал я.
– Вы серьезно? – переспросил господин Путин. – Разве не понятно, что это такое роковое стечение обстоятельств?
– Когда барнаульского мэра незадолго до этого убили, тоже, говорят, было роковое стечение. Но что такое роковое стечение? Вы же сами говорите: если бы было сопровождение, ничего не произошло бы.
Владимир Путин взял трубку телефона, стоявшего на столе (желтая «вертушка» с гербом), и попросил соединить его с генпрокурором. Когда соединили, он вышел из комнаты, где мы сидели. Его не было пять минут.
Когда он вернулся, мы продолжали говорить уже на другие темы. Один из собеседников знал, что у меня вышла книжка «Первый украинский» про «оранжевую революцию», и спросил, с кем, как мне кажется, на Украине сейчас можно иметь дело. Я искренне ответил, что, как мне кажется, ни с кем.
Господин Путин слушал, мне казалось, бесконечно рассеянно. Тогда я уже сам спросил его о том, что меня, собственно говоря, и интересовало:
– А вы с преемником-то определились?
– В принципе да, – кивнул он. – Да ведь тут особых проблем нет. Но надо, конечно, еще посмотреть. Два, кажется, кандидата есть? Я точно не помню.
Он посмотрел на своего помощника. Тот кивнул.
– Правда, оба мне пока не кажутся стопроцентным вариантом.
Я слушал очень внимательно. Так внимательно, как я слушал сейчас, я не слушал, кажется, никогда.
– Да разберемся, – добавил президент. – Край непростой, конечно. Но это не главная сейчас проблема.
– Погодите! – не удержался я и перебил его: – Вы что, про Алтайский край сейчас говорили?
– Да, – удивился он. – А вы что подумали?
Я внимательно посмотрел на него. Я бы не сказал, что в уголках его глаз спряталась хитринка. И все-таки у меня было ощущение, что со мной сейчас поступают довольно безжалостно.
– Да нет, я про вашего преемника, – сказал я.
– А-а, – ответил он. – Про моего. Ну понятно.
– И что?
– А что?
– Определились?
– А почему вас это так интересует?
– Потому что это всех интересует. И вас, по-моему, это интересует не меньше, чем всех остальных. Потому что от этого кое-что зависит.
– Ну, – произнес он, – допустим, я определился.
– Тогда давайте вы нам скажете, – от всей души попросил я.
Я подумал, что можно еще добавить, что я никому больше не скажу. Я подумал, что могу сейчас пообещать что угодно.
– А вы считаете, что надо уходить? – поинтересовался он.
– Конечно, – искренне ответил я.
– Что, так не нравлюсь? – спросил он.
Я должен был что-то ответить. И я бы, наверное, ответил. Но он решил снять это неожиданное напряжение. В конце концов, мы просто сидели и ужинали.
Мне кажется, главное – держаться подальше от своего героя. Сохранять дистанцию. Потому что это залог твоей независимости, объективности, с точки зрения твоей авторской журналистики. Это важно. Это не просто объективность – это авторская объективность. Это невозможность навязать тебе точку зрения и невозможность носиться исключительно со своей точкой зрения. Это все не очень просто. Для этого отношения должны быть рабочими между тобой и президентом, и должна существовать дистанция.
Или должен быть, рискну сказать, такой президент, который будет это все терпеть. Я понимаю, что Владимир Владимирович Путин, конечно, далеко не все читает, да я вообще не знаю толком, читает ли он мои заметки. Но мне кажется, что иногда – судя по его недовольному виду при взгляде на меня на каком-нибудь мероприятии, – а неизбежно глазами сталкиваешься и видишь, что, похоже, сегодня с утра прочел, а оно все оказалось, мягко говоря, не туда ему (как ты и предполагал, конечно). Но вроде терпит.
– Что, – спросил он, – вы считаете, не надо менять Конституцию?
Это была подсказка.
– Конечно, не надо. Вы сами знаете, что не надо.
– А почему, кстати? – искренне (уверен, что искренне) спросил он.
Он первый раз смотрел на меня, по-моему, с настоящим интересом.
– Потому что, если вы сейчас что-нибудь поменяете, через год от нее вообще ничего не останется.
«Оно вам надо?» – хотел добавить я, но удержался, потому что хитринка, которой я сначала предпочел не заметить, теперь достигла просто неприличных размеров.
– А, ну ладно, тогда не будем, – легко согласился этот человек.
– Так кто преемник? – еще раз спросил я.
– Скажите, если бы это был человек, который был бы во всех отношениях порядочный, честный, компетентный, вот вы бы, лично вы стали бы помогать, чтобы он стал президентом? – спросил он.
Я поразился мгновенной перемене ролей:
– А почему я должен помогать? Я работаю журналистом. Я никому не должен помогать.
– Нет, ну вы гражданин тоже. Вот почему бы вам не помочь стать президентом честному человеку?
Это уже было просто издевательство.
– Вы ему лучше меня поможете.
– Нет, ответьте! – завелся он. – Почему на меня не смотрите?
Я поймал себя на том, что и правда смотрю куда-то левее и выше его.
– Что, портрет Сталина там хотите найти? – съязвил он.
– Портрет Путина, – ответил я.
– Засчитывается, – кивнул он. – Но и его там нету. Ну так что, будете помогать?
– Не буду, – буркнул я.
– Ну а если человек-то хороший? – неожиданно сказал он. – И честный. И порядочный. И компетентный. Такому помогли бы?
Мне вдруг показалось, что он на самом деле говорит о конкретном человеке.
– Такому помог бы. Но такого нет, – произнес я.
– О! – кивнул он. – Все-таки помогли бы. Ну вот, а вы не хотели отвечать.
Он был, по-моему, очень доволен этой победой.
– Да не собираюсь я никому помогать. Вы можете сказать, что это за человек? – сказал я.
– Вам понравится, – сказал он после некоторого молчания.
И вот с тех пор я смотрю на некоторых людей в Кремле и думаю: он мне нравится или нет? А вот он? Или он?.. Нет, он не понравится никак. Ну, значит, он, слава богу, не будет преемником. А вот он… Ну да… Или просто его бросили на самое течение и смотрят: выплывет или не выплывет?.. Так, ломаю голову я. Он думает, что человек, с которым он определился, мне понравится. Но я ведь понимаю, кто мне может понравиться… Думая об этом, не так уж и сложно сойти с ума. Не этого ли, кстати, добивался господин Путин, произнося все это?
Впрочем, он больше не собирался говорить на эту тему.
Позвонил телефон. На этот раз президент не стал выходить из комнаты. Его соединили, судя по всему, снова с генпрокурором.
– Понимаю… Да, слышу… – говорил господин Путин. – То есть вы проанализировали ситуацию и считаете, что это должно быть мое решение? Все, спасибо.
На следующий день начальник Алтайского УВД, по распоряжению которого Михаила Евдокимова лишили охраны, был уволен.
Разговор продолжался. Я говорил о том, что меня интересовало. Ну про свободу слова, про что же еще? Я сказал, что на телеканалах ее нет и что нормального человека это не может устраивать.
– А что именно вас не устраивает? – спросил он.
– Меня не устраивает, что через некоторое время после того, как арестовали Ходорковского, у меня пропало ощущение, что я живу в свободной стране. У меня пока не появилось ощущения страха…
Я хотел добавить: «Но, видимо, вот-вот появится», но он перебил меня:
– То есть ощущение абсолютной свободы пропало, а ощущения страха не появилось?
– Да, пропало ощущение, которое было при вашем предшественнике, – сказал я.
– Но ощущения страха не появилось? – еще раз уточнил он, казалось, размышляя над тем, что я говорю.
– Пока нет, – ответил я.
– А вы не думали, что я, может быть, такого эффекта и стремился достичь: чтобы одно состояние пропало, а другое не появилось?
– Не думал, – ответил я. – Не ожидал.
Он пожал плечами и снова сделался безразличным.
– Ну так что, освободите телеканалы? – спросил я.
– Да никто их не захватывал. Телевидение сейчас такое же, какое общество.
– А вам оно нравится?
– Мне – нет, – неожиданно ответил он.
– Ну так надо менять! – обрадовался я. – Вот в этом многие бы вам помогали.
– Ну, вместе и будем менять. Вы думаете, так просто – поменять? Поменяем. Но не будет возврата к тому телевидению, которое было тогда, в то время, о котором вы говорите. Это время прошло. Его нет больше. Оно не вернется. Забудьте.
Он, казалось, убеждал в этом не только меня.
Меня раньше все спрашивали (сейчас как-то поутихло все это): почему он вас терпит? А я отвечал, как правило, так, как легче всего ответить: на меня, видимо, просто давно все махнули рукой. На самом деле это разве так? Никто на тебя рукой не махнул. Но тут, возможно, в борьбе – часто с самим собой, и, может быть, прежде всего с самим собой, – ты это право завоевал. Может быть, какое-то уважение к себе ты завоевал. А одно из соображений, по которым «терпит», если уж в этих выражениях об этом рассуждать, оно состоит, пожалуй, вот в чем: я же вижу, что они все, включая Владимира Владимировича Путина, не считают меня своим врагом. Есть такой термин – у них же – я не знаю, как у него, но от них я часто слышу: «это вражеское издание», «вражеский журналист». Они даже как-то любя это произносят.
А врагов много. В какой-то момент кажется, что вокруг только враги. Но не только враги, значит. Потому что есть люди, которые, может быть, высказываются так же жестко, но врагами при этом не являются. Это тонкая грань, но она при этом существует. Один человек… так сказать, высокопоставленный источник в администрации президента, будем так называть его… однажды дал мне, мягко говоря, одно подробнейшее интервью. И когда одна заметная журналистка улучила момент и на моих же Пионерских чтениях спросила его: «А почему не мне? Почему ему? Мы же тоже знакомы!» – он именно в этих выражениях ей и ответил: «А потому что Колесников – не враг».
4 августа 2017 года. Не такой уж он приветливый, зовущий и манящий, этот Байкал. С озера дует сильный ветер, гонит волны, водолазы в мрачных костюмах прочесывают дно в поисках запрещенки… И опять – этот ветер… И вода – холодная.
На крохотном дощатом причале стоит ящик, из которого Владимиру Путину предстоит выпустить 50 000 мальков омуля путем нажатия рычага на торце ящика. Рядом – ванна для демонстрации самих этих мальков, и в ней их – всего тысяча, и им ежесекундно меняют воду ведрами…
50 000 мальков – это, конечно, ничто для Байкала. Владимир Петерфельд, директор байкальского филиала Госрыбцентра, говорит: для того чтобы восстановить популяцию омуля, какой она была в советское время, надо выпускать 20–25 млн мальков за год, а не 1,5 млн, как сейчас. Но где ж их взять?
– Браконьерят, – вздыхает Владимир Петерфельд, – народ не такой дисциплинированный, как в советские времена…
Советские времена многим здесь не дают покоя, потому что тогда озеро было другим, то есть священным. Его никто не трогал, оно было предметом культа во всех мыслимых значениях этого слова.
– А сейчас омуль – в депрессивном состоянии… – расстроен и сам, похоже, в некоторой депрессии Владимир Петерфельд (сказывается, похоже, стокгольмский синдром, ведь кто же он, если не заложник вот этих вот мальков?..).
– Конечно, такая агитация туризма идет, все едут, мусорят, ловят… – Владимир Петерфельд угрюмо перечисляет свои беды.
И мне, конечно, жаль и его, и омуля, который так близко к сердцу принимает все происходящее. Да и всем тут его жаль. И хариуса. И сига тоже.
Вертолет Владимира Путина сел на площадку перед зданием выставки-музея прямо на берегу Байкала и, как ни странно, не задел лопастями ни музей, ни провода – а ведь казалось, обязательно должен задеть…
Владимир Путин прошел на причал и очень заинтересовался ванной, где демонстрационно, а скорее демонстративно плавали мальки омуля.
Метрах в четырех от президента я с потрясением увидел телеоператора. Дело в том, что он стоял по грудь в воде, и выше него была только его камера. Оттуда, из глубины, в которой он находился уже больше получаса, телеоператор и снимал теперь президента.
Владимир Путин между тем внимательно разглядывал мальков. Кто-то из сопровождающих сачком зачерпнул штук сто и показал президенту. Владимир Путин забрал сачок, и понес мальков в воду. Тут, в воде, у самой пристани, он увидел еще одного рабочего, который что-то мастерил около длинного желоба.
– Здорово! – окликнул его президент.
– Здорово… – угрюмо ответил рабочий, не обращая никакого внимания на президента и почему-то не добавив: «Коль не шутишь…»
Президент окунул сачок в воду и вытряхнул мальков в Байкал.
– Да это!.. – воскликнул еще один сопровождающий. – Нельзя!
Он имел в виду, что эти мальки были тут для демонстрации жизни в неволе и не были созданы для свободы.
– Чего нельзя? – удивился Владимир Путин.
Ему тут запрещали. Он не понимал.
И он зачерпнул еще один сачок и выпустил и этих тоже. И еще один.
– Осторожно, главное – ботинки не замочите! – заклинали его.
– Ничего, с ботинками разберемся… – бормотал Владимир Путин, черпая из ванны очередную порцию мальков.
Он намерен был переловить и отпустить их всех до единого, в этом можно было не сомневаться.
– Вот отсюда выпускаем! – взмолились сопровождающие.
– Че надо делать? – заинтересовался президент.
Ему показали ручку, которую следовало дернуть, чтобы мальки пошли по желобу в озеро.
Приняв решение, он не отступает. Странно, что не все еще как будто это понимают. А это надо учитывать в отношениях с Владимиром Путиным. Но пока он не принял решения, дискутировать с ним можно, на мой взгляд, и пытаться объяснять ему что-то.
Эпизод про монетку в чане с кислым молоком про это. Уже тогда, когда я толком еще не разбирался во всем, для меня это было уже очевидно, и об этом я писал. Правда, к этому времени уже была написана книжка «Разговор от первого лица», и многое было, я считал, мне про него уже известно.
Владимир Путин нажал, открылся затвор, но мальки не спешили наружу, и их стали смывать в Байкал с помощью воды из ведра.
– Ну-ка дай ведро, – сказал президент рабочему, который метал воду в желоб без остановки. И теперь это делал Владимир Путин. Казалось, он наконец нашел себе достойное занятие, но тут ведро у него аккуратно забрали: не его это все-таки, решили, забота.
– Не дают ничего сделать… – пожал плечами президент.
Я не удержался и обратил его внимание на оператора, который, по-моему, увидев, что на него глядит президент, готов был уйти под воду с головой.
– Такого, по-моему, еще не было! – сказал я.
Ведь и в самом деле не было, чтобы человек, стоя на дне озера, снимал Владимира Путина из его глубин.
– Да… Вот это да… А почему бы вам оттуда не попробовать писать?.. – мечтательно предложил Владимир Путин. – Я себе представляю ручка, блокнот, и в таких белых перчатках…
И он руками изобразил процесс письма.
Я сказал, что такого-то не только не было никогда, но никогда, надеюсь, и не будет. Владимир Путин пожал плечами. Он не был в этом уверен.
Василий Сутула, директор Байкальского государственного заповедника, провел небольшую экскурсию по выставке-музею. Но сначала он все объяснил президенту про выпущенных мальков, чтоб тот не тревожился:
– До пяти лет будут расти… Станут половозрелыми… Пойдут в реку…
– А найдут реку? – с сомнением спросил Владимир Путин.
– В него же код заложен! – успокоил его Василий Сутула.
– Ну что, – негромко спросил меня помощник президента Андрей Белоусов, – не стал омуль выходить сразу?.. Странно… Все-таки президент… Не каждый день…
Василий Сутула показывал Владимиру Путину между тем изображение «ленты времени» на стене музея. Лента начала тянуться задолго до времен Чингисхана и долго тянулась после него, а Байкал, давал понять Василий Сутула, был всегда и всегда будет.
Главное, что изображено все это было предельно доходчиво.
– Здесь у нас идет позитивная информация, – объяснял директор заповедника. – У нас есть и негативная, но здесь – только позитивная! Успешная борьба с пожарами, с браконьерами…
Отовсюду на стендах на меня свисали красиво написанные вечные вопросы «Кто виноват?», «Что делать?», нечего было и пытаться ответить на них. Следовало лишь подчиниться их величию, так же как и величию самого Байкала, который ни в чем ни перед кем не был виноват и которому ничего не надо было делать, кроме того чтобы быть.
И доконал меня, конечно, последний вопрос, вывешенный уже у самого выхода: «Кто ты на самом деле?» Я не понимал, откуда эта жестокость.
Владимир Путин поглядел на вопрос, качнул головой и зашагал прочь, на совещание, где таких вопросов ему не задают (а только просят, как через полтора часа попросит его ветеран войны и труда Иван Голощапов из сгоревшей деревни Черемушки снова стать президентом, и он по многолетней привычке ответит: «Я подумаю»).
Там он сам задает такие вопросы.
* * *В ноябре 2007 года, в День памяти жертв политических репрессий президент России Владимир Путин приехал в Бутово, где похоронены больше 20 тысяч расстрелянных в 1937–1938 годах. Там президент России впервые выглядел растерянным у всех на глазах.
Рядом с храмом Воскресения Христова и новомучеников и исповедников российских, рядом с огромным крестом, к подножию которого Владимир Путин возложил вчера цветы, есть длинный зеленый забор с колючей проволокой. Кажется, что там, за забором, то ли тюрьма, то ли казарма. Возле небольших ворот табличка «Бутовский полигон». Забор бы я, проезжая мимо, заметил, ворота и табличку уже вряд ли.
За забором какой-то странный для таких мест простор. Оказывается, что деревья растут только по периметру забора, а внутри несколько гектаров засеянной травой земли. Земля почти ровная, иногда только по ней волнами идут едва заметные холмы в несколько десятков метров длиной. Диакон Дмитрий, который служит в новой церкви, говорит, что эти холмы появились здесь совсем недавно.
– Мы сделали эти холмы. Надо было дать понять, – говорит он, – что здесь были расстреляны и похоронены все эти люди. Вот здесь. И здесь. И здесь.
– И здесь? – спрашиваю я и показываю себе под ноги.
– Да, – говорит он, – тут везде.
Ты идешь по дорожке, посыпанной песком, и понимаешь, что то, что ты сейчас чувствуешь, и называется: земля горит под ногами. Не прикасаться к ней, не топтать ее – вот все, что сейчас от тебя требуется. Потому что ты же никогда не ходил по могилам. Листья шуршат под ногами, как куски пенопласта в руках. Мороз по коже.
– Здесь похоронены больше 20 тысяч человек, – говорит диакон Дмитрий. – Это только те, про кого мы точно знаем. Больше трехсот причислены к лику святых, это те из примерно тысячи, кто проходил по церковным делам: не только священнослужители, но и церковные старосты, и просто активные миряне. Здесь лежит первый русский летчик Данилевский, труппа одного прибалтийского театра в полном составе… Здесь люди шестидесяти национальностей, греки, японцы, немцы… эфиоп есть…
Он как-то нервно улыбается, словно извиняясь: может, кому-то это неинтересно, конечно, но вот есть у нас и такое… Диакон не знает, что может быть интересно журналистам и фотографам. Он рассказывает, что раньше эта земля принадлежала ФСБ… «или КГБ, я не знаю»… и что тут стояла казарма, а потом и ее не стало, и просто бурьяном все поросло.
– А потом ее отдали нам.
– Как отдали?
– Это произошло чудесным образом, – пожимает он плечами. – Вот так – отдали, и все. Так бывает. Мы сами были удивлены.
Он показывает, как отдали, толкая руками от себя сырой воздух; толкает, словно избавляясь от какого-то ненужного и даже опасного груза.
– Пока мы не поставили здесь крест, – говорит он, – люди вокруг держались подальше от этого места, говорили, что здесь невозможно было простоять даже минуту, становилось плохо до невыносимости просто, ужас живых людей сковывал. А после того как поставили крест, стало все-таки не так жутко тут находиться.
Мы слышим, как в нескольких метрах от нас громко смеются фотографы чему-то. Девушка рядом со мной дергается от этого смеха, как от винтовочного выстрела.
– Видите, – без осуждения говорит диакон, – люди здесь уже находят в себе силы смеяться. Это хорошо.
Мы идем с ним от креста, к которому сходятся несколько линий холмов, к небольшой деревянной церкви на территории полигона.
– Говорят, расстрельная команда на всю Москву состояла из десяти человек, – продолжает диакон. – Они тут в основном и работали. В день до пятисот человек расстреливали. А потом водитель, который еще недавно был жив, рассказывал нам, что как-то привез людей для исполнения приговора, на расстрел, а во рву вся расстрельная команда лежит. Он, понимаете, увидел их всех лежащими во рву! На него это произвело сильное впечатление.
– А правда, – спрашивают его, – что раньше тут был яблоневый сад?
– Да! – очень оживляется он. – Был! Даже когда их расстреливали, он еще был. Яблоки в детские дома возили… Но людей все-таки закапывали тракторами и бульдозерами, и почти все яблони снесли. Но, кстати, еще некоторые остались. Яблок что-то давно нет, правда.
Мы возвращаемся в храм. Я вижу здесь уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Он протиснулся куда-то в сторону от алтаря. Я спрашиваю его, как вышло так, что Владимир Путин приезжает сегодня сюда.
– Так ведь сегодня День памяти жертв политических репрессий. – Он смотрит на меня с таким недоумением, словно президент страны каждый раз приезжает в этот день на могилы политзаключенных.
– Разве он делал это раньше хотя бы раз?
– Ну знаете, – говорит Владимир Лукин, – если бы он сегодня не приехал, это невозможно было бы понять. Сегодня еще ведь 70 лет пику государственного террора. СССР, как вы помните, провозгласил террор государственной политикой, а Россия является правопреемницей…
Я думал, он скажет – государственного террора.
– …правопреемницей СССР, – закончил он. – И, значит, отвечает за все. Готова отвечать. Отвечает…
Он сказал, что это он, «если честно, написал письмо президенту».
– Я предложил, если есть возможность, полететь самолетом, слетать в Магадан, там памятник Эрнста Неизвестного стоит, там же основные лагеря… – Владимир Лукин как-то разволновался и от этого говорил и выглядел странно заносчиво. – А если нет, то куда-то в Подмосковье съездить… Нет, я не говорил про Бутово, это они как-то сами… Патриарх же здесь бывал… Я просто писал письма.
Патриарх и президент появились в храме вместе. Патриарх шел с трудом, опираясь на посох. Поднявшись к алтарю, он перед началом службы благодарил президента за то, что тот посещает «одну из русских Голгоф».
– Мы должны помнить тех, – сказал он, – кто отдал свои жизни за веру и правду. Совершая богослужение на Бутовском полигоне, мы молимся за них. И мы просим прощения перед этими людьми, молимся об укреплении нашей веры в наше Отечество.