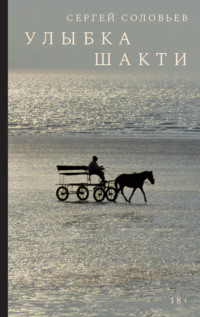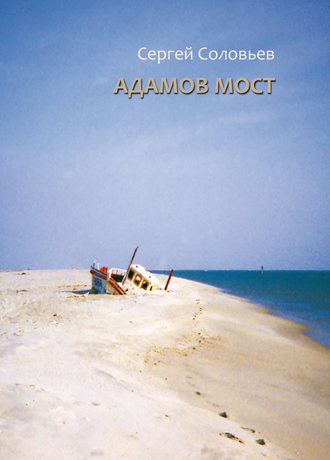
Полная версия
Адамов мост
Автобус тряхнуло, и он осел в яму. Радостно высыпали, подхватили, вытолкнули. Индийские танцы в салоне по телевизору возобновились. Главный ухарь, играя бровями, выплясывал, сужая круги к своей избраннице. Ватага его друзей разбрасывала руки и ноги во все стороны. Поразительно, мужчины, при их пластичности, в танце именно так пародийно-несуразны, этот по-детски угловатый экстаз свободных конечностей. Избранница их колыхалась, то прибавляя, то убавляя пламя. Въехали в деревушку. Все из автобуса вышли и, перейдя дорогу, сели в другой, в обратную сторону.
Двое стоят с тяжелыми музейными ружьями семнадцатого века. В форме, похожей на нашу военно-полевую. Хотя полностью они надевают ее не всегда. Достаточно метонимии. Штанов, например. А сверху может и пиджак быть, цивильный, с галстуком на голое тело. А на голову – вафельное полотенце, подвязанное под подбородком. Эта полуполиция, полувоенно-народная дружина располагается, как правило, на людных перекрестках так, что к полудню на них надета уже и парикмахерская, и харчевни, и полевые кухни, и скобяные, книжные и прочие лавки. К ночи на стихнувшем перекрестке горит костерок, на нем – котелок с едой, и у огня в отсветах – несколько полулежащих фигур. Ружья стоят шалашиком, их осматривают коровы.
Автобус отъехал. Остались мы и те двое. У офицера, что помоложе, табличка никелированная под сердцем: Гуру… а дальше фамилия – что-то гортанно-мифилогическое, типа Тируванантапурам. Или Бхагавадгита.
Манора, говорим. Заинтересованно не понимают. Достаем карту. В который уже раз, становясь заложниками этой сцены. Стоит индусу увидеть карту – и всё: можно вокруг Земли обойти и, вернувшись, застать его в той же позе, с тем же напряженным вниманьем в лице и пальцах на пути к просветлению. Показываю им Манору на карте. Кивают. А мы где? – спрашиваю. Кивают. Мы, говорю, обводя рукой, едем, показываю… И так далее, языком жестов. Гуру поднимает взгляд к солнцу, покачивает головой и вновь приникает к карте. Народ подтягивается, карта уже идет по рукам. Наконец нас сажают в какой-то призрачный автобус, вдруг появившийся ниоткуда. Голубоватый свет, лампочные гирлянды, ни души в салоне. Аптекарь закрывает лавку, садится за руль.
Это был уже четвертый день пути к Маноре. Судя по карте, движение к ней мы всякий раз начинали верно, в ее сторону. Но потом, как-то исподволь, дорога выпрастывалась из направления и уводила нас в глубь материка, вместо пути к океану, до которого было всего-то рукой подать. Но эта рука-дорога все норовила куда-то за спину завестись, то заламываясь, то пытаясь нашарить там что-то во тьме, и, не найдя, возвращалась. В один из этих четырех дней мы даже нарочно отправились в противоположную от Маноры сторону, втайне надеясь разомкнуть этот круг. Городок Танджавур как раз приходился левой пяткой севшей на шпагат местности, правой была Манора, а мы ровно посередине. Добрались легко, как с горочки, и, что самое удивительное, это и был Танджавур. Возвратились к ночи, с горьким чувством.
Терракотовые крепостные стены, сады за ними, озерцо с лодками. Храм Шивы, кажется. В глубине сада, в простенке, стоит слониха, нерослая, распяленная цепями на четыре стороны. Метет хоботом красноватую пыль у твоих ног, смотрит в тебя и не видит. Нет уже места в ее глазах – ни тебе, ни боли, ни этому божьему дню. Так распяливают умалишенных на железной сетке. Мамочка, прошептала ты, покачиваясь, невольно вторя ее движеньям, пожалей своего бедного сына. Когда уходили, она была уже у ворот, в толпе, и под вспышки фотокамер машинально сажала себе на спину туристов, одного за другим, глядя вдаль, поверх крепостной стены.
Автобус трижды уже наполнялся и пустел. Ехали мы по каким-то щемящим краям: узенькая бетонка, по сторонам которой смеркалась безвидная земля. И смерклась. Ни огонька – ни вокруг, ни в небе. Кондуктор стоял за спиной шофера, облокотившись на его плечо, и смотрел в полосу ближнего света. Уже задремывали, как вдруг автобус резко вильнул к обочине и остановился. Манора, Манора, кричал нам кондуктор через полуспящий салон. Подхватив рюкзаки, мы кинулись к дверям. Все еще держась за поручень, я сделал шаг с подножки во тьму – земли не было. Напрасно я водил ногой, окуная ее то слева, то справа, то глубже. Не было. Кондуктор подталкивал нас, автобус уже трогался и скользил, казалось, по самому краю бездны.
А где, где Манора, повторял я, все дальше отклоняясь во тьму, как яхтсмены, свесившись за борт, где она, я вас спрашиваю! Кондуктор стоял с вытянутой рукой поверх наших голов: – Там!
«Там», когда красные стоп-сигналы истаяли вдали и наступила тишь и кромешная тьма, это «там» было везде и нигде. Мы на ощупь нашли рюкзаки и друг друга. Когда понемногу начало возвращаться зрение, мы различили на той стороне дороги какую-то будку. Перешли, ищем фонарь в рюкзаке. Ночевать здесь? Или идти? Но куда? Может, это единственный автобус – за всю ее жизнь, этой дороги. Где, я вас спрашиваю, посмеиваешься ты, роясь в рюкзаке, где Манора?
Манора? – вдруг произносит стена мужским голосом. Манора – там. И тишь. Голос был в шаге от нас. Там, говорит стена, нет ночлега, езжайте назад.
Включаю фонарь. Сидит в углу, на корточках, большая седеющая голова, очки поблескивают. Видно, годы сидит, седея. Голые колени у подбородка, руки сложены на груди, на плечах одеяло. Поднимается, берет костыль, переходит дорогу, машет костылем в слепящем свете фар, как в ореоле.
Там, оборачиваешься, входя в автобус, как они говорят, уже все написано, и подмигиваешь в сторону неба.
Та же площадь. Зеленщик спит на своем прилавке, спиной к самовару, еще не остывшему. Портье в отеле, из которого мы уже трижды выписывались и вселялись, зевая, протягивает нам ключи.
Всё. Завтра едем в Рамешварам, священный, смывающий все грехи. Два моря там сходятся. И капельный след островов, называемых почему-то Адамов мост, ведущих к Цейлону. Цейлон, шепчешь ты в эту тьму детства со сказочным кубиком чая, Адамов мост… неужели все это правда, неужели мы есть на свете?
Да, говорю. И ехать будем, кажется, через Манору.
Барка
Из песка эти стены – сыпятся, на зубах скрипят. И свод – то ниже, то выше, то вбок скользит. Как давно я здесь? Я, с которым так трудно теперь – быть, говорить. О чем? Кроме пути вспять по своим следам к тому месту, где нас не стало. Но его нет – ни времени этого, ни места, сколько ни вглядываться в наше с тобой прошлое, нет этого поворота, на который можно было бы указать пальцем: вот, здесь. Да, как с тем егерем – все шло хорошо, ничто не предвещало, но он хоть сорвался в ущелье, все же какая-то последовательность событий или ее видимость, а у нас? Вот мы – на одном берегу, а вот ты и я, уже порознь – на другом. Будто ничего и не произошло. Будто они незаметно для нас проступили из этого мы – ты и я, едва узнаваемые. Ты, Юлия, и этот человек, лежащий здесь, который все возвращается вспять по следам и не может понять – где, когда, почему. И чем дольше он кружит, тем больше запутываются, затаптываются следы. Это та тропа, по которой он шел когда-то или новая, проложенная им вчера? Память с душой играет – в обоих смыслах. А может, он (я) и не хотел этой правды, и потому кружил, уклоняясь? Может, место вовсе не там, где ломались копья потом, а задолго до, в самом начале? Но идти в эту сторону он не решался. Только начни разбирать, и от чуда ничего не останется. Как сейчас? Нет, с этим он не смирится, не примет. Все еще обратимо, пока он кружит, пока все еще есть этот источник света, пусть и не здесь, а на том берегу, когда он еще был собой, был с нею…
Где же он, тот первый камешек, покатившийся с обрыва? Разве его найдешь теперь под руинами, да и в нем ли дело? Держался, как мог, стараясь тебя не тревожить. И ты не то чтоб не замечала, но прислушивалась к другому, оно росло у тебя под сердцем – наше будущее. Прикладывал ухо к твоему животу, Лёня, шептал, любушка моя, Лёня, и ты поглаживала мою голову, улыбаясь. Слушал жизнь в твоем животе, а слышал то, что росло под моим сердцем – тихую тьму. В тебе жизнь прибывала, во мне она уходила. Помнишь того веселого бога, который спал с тобой на деревьях, сочинял дни и дарил имена, отмахиваясь от зудящих ангелов в том чудесном саду? Помнишь, он мог все на свете, и ты была счастлива с ним. Любушка, Лёня, теперь шептал тебе этот вдруг постаревший мальчик, в котором бог умер, не веря еще, что всерьез. И ты, закрывая глаза, улыбалась, не чувствуя, что происходит, будто ты еще в том саду, и я рядом с тобой, а в животе твоем – маленький взрослый, и все еще впереди.
Нет, конечно же, видела и пыталась помочь, но при этом думала: ничего, продержимся, он же сильный такой и смелый, выстоит, преодолеет. И потом, ведь он понимает, что это опыт чуть ли не каждого мыслящего человека. Норма, а не исключение. Беда только в том, что с ним это случилось с таким удивительным опозданием. Целую жизнь умудрился пройти по небу, и вдруг свалился на землю, столкнувшись со всем, что обычно на ней происходит. А что происходит? Умирают близкие, уходят иллюзии, меняется взгляд на прожитое, приближается смерть. Что ж он, не знает, не жил или книг не читал? Все проходит, и это тоже. Да, бывает, дар отставляет художника. На время. Бывает и хуже. Но ведь есть и другое, и это как раз сейчас протягивает ему руку помощи: дом, семья, ребенок. Слава богу, есть куда взгляд отвести, а там, глядишь, развиднелось бы. Но он уже так далеко зашел, что не может выбраться, повернуть голову. Случилось то, чего меньше всего можно было ожидать. Все те светлые силы, которые помогали ему, он направил в эту открывшуюся в нем тьму, беду, бездну. Чтобы что? Дойти до конца, до сути? С той же одержимостью, с какой жил.
Нет, так ты тогда не думала. Просто видела, что не лучшая у меня полоса. Но, наверное, это естественно. После того подъема, который так невозможно длился, и счастье ведь валит с ног, и сила, не только слабость. Вдох, выдох. Поглаживала живот, прислушивалась. Перерождалась. И еще думала, в даль вглядываясь: может, и слава богу, что это пришло на выдохе – будет где переждать непогоду, да?
Но не в этом ведь дело было, совсем не в этом.
Степь, пекло, хоть ножом его режь, вымершие лиманы, времянка в саду, две кривые кровати, детское яблочко на выжженной ветке в окне. Месяц прошел, а он все не рождался. Лежали с закрытыми, притворяясь, что спим. Звонкой жердочкой была в Индии, смуглая, только глаза светились, а теперь лежит под простынкой, как Фудзияма. Луна в окне. Спишь? Нет, вздохнула, с тобой разговариваю, с тобой в себе. Встал, перелег к ней, нашел под простынкой ее ладонь, сплелись пальцами, тихо перебираем, как те паломники под Фудзиямой, замирая и восходя. Ветка с яблоком, прильнув, по стеклу елозит.
Там мой сын. Там. И отец рождается заново – там, в сыне. Пут – говорят индусы. Значит, и умирает. Дважды-рожденный. Год как умер отец. Там – смешенье времен. И языков. Толкается под ладонью. Там – гора Меру. На слонах, черепахе и рыбе. Покачивается. И несут ее, как в паланкине, на кривой кровати. Чашкой в меня запустила вчера, она все летит с нерасплесканной нежностью. Неж, нож… Может, она Иггдрасиль? Любушка Иггдрасиль. Дерево мирозданья. Перевернутое. И читалы бродят по веткам, шелестят листвой времени. Здесь настоящее, тут прошлое, там будущее. Там. Тут, говорит, щекотно.
А потом я родился. В три индусика весом. Маленький папа. Помолчал немного, огляделся и завопил. Безутешно. Покрываясь пятнами, перерисовываясь, как изумленные карты мира в эпоху открытий. Дикая аллергия. На всё. На молоко, на людей, на небо и землю. Я его понимал. На меня он действовал так же, этот санпропускник преисподней. Я только внешне держался, а внутри стоял голый на кривом цементном полу в общей душевой, прижимая к груди узел с бельем, в очередь, вниз. Безутешен, – записывала санитарка. – Следующий.
Завернул его, двухмесячного, в тебя и улетел в Индию. Как панночка? – косилась на меня, подначивая. Да, моя радость, и Гоголь под мышкой. А малыш-то расцвел, как только земли коснулись, – кожа чувствует, где ее счастье.
Снял дворец махараджей над Гангой. На последние, с музыкой. Мрамор, пенье воды, подвесные сады. Маленькая служанка Пармила из лесных адиваси, вся в огоньках-колокольцах, молочник, спускавшийся с гор по утрам с кринкою для тебя, два садовника под балконом, без конца пересаживающие растенья, будто играют друг с другом в эти цветочные шахматы, бричка по вызову с доставкой продуктов, массажист с торбочкой благовоний и масел (вначале меня раскладывает, мнет, утюжит, мантры гудит, а ты малыша баючишь, «развеселые цыгане…» – тихонечко напеваешь, а потом мы меняемся, и он на тебе играет, как на щипково-струнной, а обезьяны припали к окнам, сгрудились, смотрят), Оммм, Оммм, гудит он, завершая, и в конце – что-то похожее на «бля» выдыхает. Вот, чуть свет, в дверях застенчивый Феофан с бородой поверх кринки, потом служанка, танцующая с малышом на руках, а мы на балконе овсянку едим со всеми восточными радостями, осточертевшими, а она, Пармила, уже гремит кастрюлями, колошматит белье об пол в ванной, вывешивает над нами, щебечет, вспрыгивая на табуретку, плывем под этими парусами, мокрые, не увернуться, солнце встает над горой, костер разгорается у реки, первого понесли жечь, а на пороге уже – как его звали? – Омммбля, коврик раскатывает, сегодня с тебя начнем.
А там, за рекой, на пустыре – смотрим в бинокль – стучат молотки, ярмарка, цирк приехал, пойдем туда с малышом. Вот-те на, кто б мог подумать, ни секунды не может он в этом дворце, мальчик наш, до истерик, и сад его этот райский не радует, туда стремится – к индусам, на торг, на рынок, где жизнь кипит, в тот детский адик, раёк, лишь там он стихает, разинув рот. В рюкзачке на груди несем его, но только лицом вперед, иначе никак – горе: что ему в грудь глядеть, как в стену плача? Есть у тебя третий глаз? Да, вот – на груди, вперед смотрит. А первых двух нет, прикрыты. Так и передаем его по пути друг другу. Большой, тяжелый. Ванночку ездил ему покупать. На какой возраст, спрашивают. Пять месяцев, говорю, два набросив. Кружку протягивают. Да нет, что-то вроде такого – показываю им на пластиковое корыто. Это? – для школьников, улыбаются, покачивая головой, и маленьких женщин.
По улице с ним не пройти: каждый его норовит ущипнуть за щечку, коснуться, благословить – зеркальная благость. На второй сотне нервничать начинаешь, все еще кивая в ответ. Я, не ты. Ты, похоже, почти счастлива. Единственное, что беспокоит тебя – молоко, хватит ли для малыша, сцеживаешь, следишь, гадаешь – дотянешь ли до полугода хотя бы. Ни мяса, ни рыбы тут, орехи ношу тебе с рынка и всякую сушеную милость, ешь непрерывно, опустошая все, что видишь, молишься на грудцы свои – миро-точат боженьки. Вот о них ты, о Лёньке тревожишься и порывами вдруг обо мне, все же чувствуя, что не так и светло уж за этой моей улыбкой, заботой и суетой.
Значит, завтра на ярмарку, а сейчас – на лодке в сад к собачьему садху на чаёк. Где бы он ни был, со всех концов света собаки идут к нему на поклон, а он стоит – борода до земли, трезубец в руке, волосы по ветру, суров и страшен. Это они только знают, собаки, какой он ребенок, они и мы. Садится на землю, развязывает мешок, кормит их сладкими сухарями. Нежно берут, губами, потупив очи, по очереди. Дикие псы. И уходят в джунгли. А Лёнька на дерюге лежит под стеной, смотрит. Когда-то на этой стене я чаепитье зверей рисовал и вид на реку, которую она загораживала. Чайханщик помнит, но при тебе он об этом не говорит. А тогда придвинул свой примус к огню нарисованному, и индусы подсели к нарисованному столу, а Шушелькума – вот как сейчас – то лист с дерева, то травку сорвет, в чайник бросит, так и чаевничали за одним столом – звери, люди, духи, пока стену не смыло в сезон дождей. Коровка прошла, Лёньку лизнула, бычок ее ждет на тропе, отвернувшись. Садху встает, взял трезубец, подмигнул нам, скрылся в зарослях.
А мы к портному идем, мальчик-непальчик ждет нас у подвесного моста. Будем ткань выбирать, наряд тебе шить – штаны и курту с пояском, вот бумажка, я начертил, он разглядывает, завтра к вечеру, говорит, примеримся. Из тумана медового шить будет, такую с ним нашли тебе ткань. А мне солнечную рубашку сошьем, это ты уже настояла. Потом обедать – в «Ganga view», по дороге Гопала встретить – три сестры в мешке за плечом, дудка под мышкой, бос, а кафтан – как куполок Блаженного, живопись! Я, говорит, снадобье тебе обещал от змеиного яда, вот, запускает руку в мешок, ищет, да где же оно, вытряхивает на землю трех молоденьких кобр, ты отпрянула с Лёнькой, а – вот, поднимает камешек, похожий на канифоль, это из их отрыжек, говорит, потрешь в месте укуса, и всё пройдет.
Что-то давненько мы дал не ели, да? Или алу гобхи панир сабджи возьмем? С плейн ласси. Тебе два стакана, мне один. И сласти тебе, гулабжамун какой-нибудь. Нет, смеешься, только не это, от них я сознанье теряю. По пути мы зайдем в музыкальную лавку к Раму, в дальней комнате у него ювелирка, камешки, я хочу купить тебе Ганешу на цепочке, маленького, серебряного, на счастье (он запропастится куда-то, а найдешь его почерневшим – там, в степи).
А потом я отправлю вас на бричке домой во дворец, а сам спрыгну на повороте и пойду по верхней тропе в джунгли за мясом. Да, по тропе неприкасаемых над обрывом – к той избушке в пуху и перьях, как в снегу. А внутри сидит мальчик лет двадцати, а над ним висит вниз головой козел лет десяти. Верней, полкозла, смотрит заплывшим глазом. А за спиной у мальчика – доморощенный алтарь: джаганнат, кришна, огоньки, цветочки. Намаскар, свами, – улыбается мне, складывая ладони, – две, как всегда? И выходит из избушки. Сейчас он вернется с двумя курочками, уже освежеванными. Худенькие, стройные, смуглые, мы их зовем «модильяньки». Как же он успевает за две минуты поймать, ухлопать и снять с них все вместе с кожей? Вот возвращается из курятника, садится на пол на маленькой сцене под козлом, перед ним два таза, ноги босы, вставляет рукоять тесака между пальцами ноги лезвием вверх, берет курицу и начинает кромсать о лезвие. То есть не начинает, а сразу заканчивает – скорость рук превышает способность зрения. В одном тазу требуха, в другом – мелко нарезанное мясо. Нет, уже завернутое в черный полиэтилен – чтоб не смущать праведных в поселке. В эту избушку ходит низшая каста – неприкасаемые и я, мать кормящая. Что делать – низменные потребности: белок нам нужен. А на Новый год была у нас заливная рыба под томатным соусом – в Харидвар ездил за этим кощунством, потом всю ночь его возводил, храм рыбы, кроваво!
Вернулся, а вы еще спите, то есть Лёнька, а ты лежишь рядом, скачиваешь нам на вечер что-то из National Geographic. Да, вот заповедник рядом, наш, Раджаджи, пару часов, и мы были б там, но идут месяцы, а мы здесь, в райском саду, в карантине, смотрим фильмы про джунгли, странствия, про нашу Индию, которая за углом. Ты чувствуешь, что я чувствую, но молчим. Потому что – куда же мы с малышом, в какие джунгли? Но ведь скоро обманем себя и пойдем. Лучше б мы это не делали. Или не лучше? Легкий поворот, притяжение дивной родины… Кто ж теперь скажет.
Проснулся и уже безутешен – такая обида у него на лице, губки ломает, обводя взглядом эти мраморные покои, слезы текут. Сейчас покормишь, и пойдем к реке. Или там, у реки, покормишь? Да, я пока в Ришикеш мотнусь. Что нам нужно? Памперсы для Гаргантюа, нашли все же этот юношеский размер в особой лавке, торгующей водным снаряжением. Потом коляску, которую присмотрели. Это эфемерное веселое чудо, совершенно не предназначенное для Земли. Оно препиралась не то что с каждым препятствием на дороге, а и со складками воздуха, и складывалось всякий раз самым неожиданным образом, выбрасывая из себя малыша. Ели б вместо колес крутились ангелы и успевали его подхватывать, а так крутиться приходилось нам, обмирая. Похоже, полотно ее было сделано из того же состава, что и крылья бабочек, а так называемые твердые части, стыки и прочее – из кузнечиков. В общем, она стрекотала, пела, порхала и вид имела сказочный, цвет преобладал красный, царственный. Да, порхала – в порывах ветра ее поднимало над землей и приходилось рулить в воздухе. Лёнька был счастлив. Сидел в ней в своей распашонке, расшитой свастиками, забросив одну ногу вбок, на перекладину. А мимо текли коровы, машины, люди, помнишь, обезьяна выхватила у него из руки банан, не испугало, смотрел вослед и смеялся беззубым ртом. Коляску мы отдали какому-то лудильщику, по совместительству коновалу и часовщику. Сегодня надо заехать к нему забрать эту насекомую катапульту, переделанную во что-то более-менее, надеюсь. Потом что? Да, кумла – килограмма три этой пахучей мандаринной радости. Блендер для овощей и молочных смесей. Потом к доктору в поликлинику – договорится о прививке для Лёньки, это вторая уже, первую тяжеленько перенес, ночью пальчиком над собой водил, жаловался, рисовал горе. Потом шарики надо купить, штук двадцать, надуть гелием, это на площади, у гхатов. Завтра у нас маленький праздник, договорился с Джаянтом, а он – с погонщиком и тремя музыкантами. Утром раздастся дивная музыка – типа Кустурицы по-индийски, ты выглянешь в сад, а там – два ослика под нашим балконом и надувные шары над ними, а оркестр в кустах. Такой тебе будет сюрприз, и мы спустимся к реке на этих осликах, а музыканты будут шествовать впереди. Да, орехов тебе надо взять еще, ты уже все подмела. Так и ехал в бричке, а шары трепыхались над крышей, сошел у лодочной, а шарики отправились к Джаянту ночевать. Ты сидела у самой воды, пила чаёк-масала, Лёнька спал у тебя на коленях, на том берегу в Парматх Никетане уже горели огни, начиналась вечерняя Ганга Аатри, доносилось пенье, порывистый ветерок дирижировал слухом. Я, говоришь, в этом шитом тобой тумане буду выглядеть полной… Любушкой, я подхватываю, и целую тебя в кончик носа.
А к ночи я не дышу. То есть совсем не дышу, а ты немножко, и даже шевелишься рядом со мной, так и лежим, глядя в экран. А там этот неописуемый человек, если он человек (как же его зовут?), ты скачала все фильмы с ним, змеелов, но какой же он змеелов, таких не бывает: движенья его быстрее змеиных бросков, а взгляд такой, что эти твари, кажется, не выдерживают, отворачиваются. Бежит, хватает за хвост, ликует. Прыгает в воду с обрыва, вынырнул, держит за горло, плывет, как с фужером в руке. Но это разминка. Теперь он здесь, в Индии, ищет встречи с королевской коброй. Нашел. Пятиметровый самец, в летах, но полон сил, одним плевком он мог бы отправить на тот свет целое общежитие, но он не хочет связываться, уползает, не оборачиваясь, ему нет дела до вцепившегося в его хвост человека, он волочит его, упирающегося, за собой. Но тот перехватывает руками, допекает, дразнит, и, наконец, этот исполин взвивается – броском назад – молниеносно – в рост – и замерли: глаза в глаза, так близко, что, кажется, меж ними и воздуху не проскользнуть. Я не дышу. А эти двое? Стоят, не шелохнутся, и считывают каждое движенье наперед. Не совершая их. Как бы проигрывая партию в уме. Все комбинации. И это длится невозможно долго. Вот голова змеи чуть дрогнула, осела вниз – на йоту. Он медленно – глаза в глаза – заводит руку и опускает на ее затылок. А потом мчится в своей машине по хайвею и, ликуя, бьет кулаком по рулю: я сделал это, сделал, жизнь удалась!
Вышли покурить на балкон, а этот взгляд и язык раздвоенный – стоит во тьме перед нами. Лишь мгновенье терпел эту руку, и отшатнулся, но так, что того отбросило метра на три: живи!
Нет, тогда еще мы держались. Лёнька перекатывался во сне то к тебе, то ко мне, что-то трогательное бормотал, а мы плели над ним наши мостики свиданий из рук, шепота, тишины. Столько света в нас было еще, что казалось, можем жить и во тьме. Точнее, не в нас, а между, который стал нами. И Лёнька, и то, что прошли вдвоем, и может, задолго до, когда не знали еще друг о друге. Или знали? Я, говоришь, сколько помню себя, знала. Закрывал глаза и летел в колодец. Как ведро на цепи. А проснешься – снова эта чудесная мишура дня, от которой к ночи валились с ног. И разве за ней разглядишь, что в тебе происходит, во мне. Крутим это чудесное колесо во все наши восемь лап. Так светло, что в глазах темно. Но ты не заглядываешь вперед, ты вся в сегодняшнем. И мне говоришь: что ж ты гложешь себя из будущего, не гневи бога, он тебе этот день протягивает на ладони, этот, наш, а ты все норовишь за спину ему заглянуть, угадать, что в другой руке.
А потом придут ос выкуривать, страшных ос, стимфалийских. Что-то волшебное зацвело в саду. Амрита? И они за бессмертьем слетелись? Стояло зловещее желтое облако, в нем вили веревки они – из сада и из дворца. Мы пробирались в марлях, окна задраены, служанки нет, отлеживается с заплывшим после укуса лицом. Завтра в десять ангелы вострубят и откроют вентили на заплечных баллонах. Хорошо бы не быть здесь в эти дни осиного апокалипсиса. В заповедник? Да, побродим вдоль леса, по краю, нет, не волнуйся, не углубляясь. Рисую записку молочнику, ты умираешь со смеху, глядя на этот комикс без слов. Тут ведь никто по-английски не говорит, кроме управляющего, но где он – разве что в телескоп различим в звездную ночь, а сюда спускается по субботам. Да, говоришь, представляю, как этот молочник будет в горах разглядывать с женой и детьми эту твою махабхарату, особенно, рис. 5, где он мне кринку протягивает – вылитый Грек, а я, как Рублев, в ночнушке, лютики – чудо как хороши. Взяли Лёньку, набросили марлю, пошли.