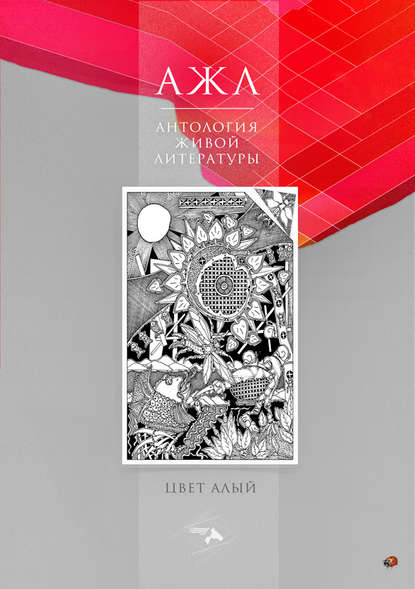Полная версия
Листая Свет и Тени

Листая Свет и Тени: антология прозы
Редактор-составитель Нари Ади-Карана
Серия: Антология Живой Литературы (АЖЛ)
Серия основана в 2013 году Том 3
Редактор-составитель Нари Ади-Карана
Издательство приглашает поэтов и авторов короткой прозы к участию в конкурсе на публикацию в серии АЖЛ. Заявки на конкурс принимаются по адресу электронной почты: skifiabook@mail.ru
Подробности условий конкурса можно прочитать на издательском сайте: www.skifiabook.ru
Все тексты печатаются в авторской редакции.
Предисловие
Принято говорить, что жизнь – вроде зебры – в черно-белую полоску. На самом деле она редко достигает такой глубины тона, чтобы быть по-настоящему черной или белой. Она какого-то нейтрального цвета, и по этой серенькой поверхности беспрерывно движутся, скользят Свет и Тени, Свет и Тени…

Елена Счастливцева
г. Санкт-Петербург

Печаталась в журнале «Север» в 2013 году, повесть «За рабочее дело»; рассказ «Шишки» получил 2-ю премию лит. конкурса им. Короленко в 2014 году; журнал «Север» № 3–4 2015 – рассказы «Шишки», «Самый счастливый день», «Урок китайского».
© Счастливцева Е., 2015
Шишки́
Шишо́к – леший, черт, домовой, вредный и старый, но не очень злой, по мнению автора.
На крохотной кухне обедали молча; стучали ложками, глотали суп. Виною была Вовкина двойка. Вчера, к тому самому времени, когда Вовку кто-нибудь из родителей забирал от деда с бабой спать, он вспомнил о докладе. Вовке необходимо было сделать небольшое сообщение по истории на тему, озвучить которую он никак не мог. На скомканном клочке, выпавшем из перевернутого вверх тормашками портфеля, с несколькими ошибками было написано: «Чесменская церковь как парафраз готики».
– Небольшой доклад, – Вовка извиняюще заглядывал в округлившиеся глаза деда и бабки. – Всего на пол-листочка маленький такой докладик…
Бабушка рванула ко Всеобщей истории искусств, дед – к Большой Советской Энциклопедии, Вовка – к Википедии. Совместный труд был судорожно сляпан минут за двадцать и благополучно забыт Вовкой утром дома. Другими словами, двойку по истории заработали совместно.
– Деда, Людмила Алексеевна сказала, чтобы ты пришел завтра в школу… – Вовка безуспешно пытался разрядить обстановку. Двойку дед с бабой воспринимали острее него.
Дед строго посмотрел на внука поверх очков.
– Не, честно. Она спросила: «Был ли у кого-нибудь дедушка на фронте?» Никто руку не поднял, а я поднял и сказал, что мой дедушка – блокадник. – Вовка водил ложкой в супе, изображая процесс поедания.
Дед глядел в тарелку, медленно подносил ложку ко рту и еще более медленно жевал десятком сохранившихся зубов.
– Ну, так ты пойдешь?
– Я же не герой: был тогда ребенком. – Сказано было категорично и почти по буквам. Суп деда интересовал куда больше беседы с подрастающим поколением.
– Давай, деда, сходи! – Вовке на помощь пришла бабушка.
– Кому это интересно? – вяло отбивался дед, не отводя глаз от супа и ложки.
– Детям, – бабушка заняла наступательную позицию. – Дети должны знать.
Дед устало вздохнул, но отвечать передумал.
– Так ты пойдешь? – спросил Вовка.
– Нет! – Дед доел суп и протянул бабушке тарелку для второго. – Никаких подвигов я не совершал.
– Как же, дед? У тебя медаль «За оборону Ленинграда»!
– Так ее всем давали, кто 900 дней пробыл в городе, не уехал в эвакуацию и работал. Маме моей дали, папе, тетке твоей. У нас вся семья – герои-медалисты. Соседка Матрена Терентьевна тоже героиней была.
– Дед, а я учительнице уже обещал… – Вид у Вовки был совершенно подавленный. – Ну, расскажи хоть что-нибудь, а я в классе это перескажу.
Казалось, дед ничего не слышал: он так же аккуратно, как и с супом, разделывался со вторым,
– …Когда удавалось достать желатин, – неожиданно начал он, – мы брали лавровый лист, уксус, горчицу. В блокаду почему-то с уксусом было все нормально. Все это перемешивали, медленно…
Эту историю Вовкина бабушка за пятьдесят лет жизни с дедом слышала не единожды, и весьма вероятно, что ели само варево меньшее число раз, чем о нем рассказывалось, причем только о нем.
– Вся семья собиралась на кухне, наполовину загороженной чугунной дровяной плитой. Готовили СТУДЕНЬ! Разводили в кастрюле желатин, а к нему полагался самый настоящий острый соус! Тетка Аня искала лавровый лист, тетка Зося – черный перец… Приготовления к варке студня шли степенно и величественно-осознанно. Это был даже не процесс, не алхимия, а священнодействие! Не беда, что в том студне мясо не предполагалось, но студень можно было почти жевать.
Вот она, огромная семья, на довоенной фотографии: все улыбаются, все покойники – даже те, кто не попал в кадр, не добежал, не успел. Невидимый фотограф, не знакомый последующему поколению дядька Антон нажал на кнопку. Фотоаппарат клацнул, а спустя месяц в темной кладовке, при свете малиновой лампы, они все плавали в такого же цвета жидкости, извиваясь фотопленкой и устрашающе улыбались, обнажая черные зубы.
Живы только Вовкин дед и его сестра, хлопнувшаяся год назад головой о кафельный пол в сортире и оттого полностью потерявшая разум.
Она, будучи в здравом уме, любила другую байку: как с подружками рыла окопы, а в обстрелы, когда чуть стихнет, выползала на поверхность – покрутить ручку патефона или подтолкнуть заевшую иглу, с опаской озираясь на воющие небеса, и быстрее по-пластунски назад: дослушивать песенку водовоза из «Волги-Волги». Таков был ее посыл в историю, завещание человечеству.
Воспоминаний про студень Вовке явно не хватало: не тянуло оно на «урок мужества», никак не тянуло. Дед, вероятно, и сам так посчитал, а потому далее последовала еще одна занимательная история.
– Сосед с третьего этажа один остался. Ходить на улицу не мог, он взял и вытащил на лестницу бадью с нечистотами и вывернул ее вниз в пролет.
Вот эта история пришлась Вовке по вкусу, а дед безразлично продолжал: – Но он все равно потом умер.
– А как же вы мимо ходили? – Нечистоты на Вовку произвели большее впечатление, чем немощность и смерть безвестного соседа.
– Так замерзло сразу, весной оттаяло, убрали.
Вовка уже сполз со стула. Необходимую ему информацию он из деда выбил, и завтра перед учительницей ему стыдно не будет.
– Вовка, не убегай! Дед, ну надо какую-нибудь другую историю для детей. – Бабушка преследовала сразу две цели: не обидеть деда и отобрать рассказы для класса.
– Как вы не понимаете? – дед заскрипел остатками зубов. – Об этом говорить нельзя!
Вовка с бабушкой пригнулись и притихли.
Об этом никогда никто не говорил, об этом не думали; во всяком случае, старались не думать. Его родня, поредевшая, собиравшаяся по самым незначительным поводам в гостиной за огромным дубовым столом, беседы вела о всякой бытовой ерунде.
О чем угодно, только не о 41-м годе, стараясь вытравить хоть малейшее воспоминание. Даже оговорки, даже случайные реплики не проскальзывали никогда! А вот то, что сказала вчера соседка или дама в троллейбусе… Любая мирная мелочь во сто крат была важнее. Дед гнал прочь воспоминания о детстве, тетки – о юности. Всем им это почти удавалось, и чем дальше, тем больше.
Другими словами, последующее поколение о безымянной даме в троллейбусе или даже в трамвае, а уж тем более о сельском хозяйстве Гондураса или Тринидада с Тобаго знало куда больше, чем о прошлом своей семьи.
– Вам ведь просто любопытно, а мне на некоторые фотографии больно смотреть! – Дед замахнулся, намереваясь ударить жилистым кулаком по столу, но попал в тарелку с недоеденным пюре, которую бабушка ловко подхватила. Злобное выражение искорежило лицо старика. Он вытер грязный кулак сначала о край стола, затем схватил и утерся висевшим кухонным полотенцем и молча, демонстративно, удалился к себе в комнату спать.
Пока шаркал тапочками до своей комнаты, немного поостыл. Лежа со сложенными на груди руками, он подумал, что напрасно погорячился. Вот теперь не уснуть, привычный распорядок нарушается. Дед, широко раскрыв рот, зевнул; из глаз выкатились слезы, но сон не шел…
Внук крайне не радовал деда своим поведением: от телевизора и компьютера не оторвать, читает из-под палки… На ум пришло высказывание Чайковского о том, что из детства человек черпает воспоминания и впечатления всю жизнь. А что у Вовки будет за душой, когда вырастет? Компьютерные стрелялки и троечные знания?
От Вовки с Чайковским мысль деда плавно перешла к куплетам Трике из «Онегина».
Как же он их не любил! До чего привязчивые! Их частенько передавали по радио. И крутятся они в голове, и крутятся… Позднее, чтобы их выбить, он напевал «Танец с саблями» Хачатуряна. Иногда помогало. А тогда он мальчишкой спешил вдоль Обводного на «Красный треугольник», где работал; спешил и пел эти дурацкие куплеты.
Светило солнце: первое весеннее ласковое дезинфицирующее солнышко, под которым оголяли гноящиеся и смердящие язвы человекоподобные выползки из соседних домов. Он шел мимо них, а глаза против воли разглядывали и ощупывали каждую выставленную, как на показ, язву. С тех пор бал у Татьяны и объяснение Ленского с Онегиным у него неразрывно связались с этими уродливобезликими человеческими огрызками, помноженными на детские страхи. Где там американским ужастикам! Слабаки!
Дед зевнул, сам перед собою пытаясь спрятаться за маску равнодушия, но за закрытыми дверями комнаты его никто не видел, а потому мысли потекли в печальном русле и скоро оттуда не выбраться.
«Какой уж там сон!» – это он сказал сам себе вслух. Зачем они окунули его ТУДА?
Он, понуро и послушно, встал с кровати, нашел чистую тетрадку в линеечку, ручку и уселся за письменный стол, достал из футляра очки, водрузил их на нос. Наверное, он должен им что-то оставить?.. И они правы…
По Обводному он часто ходил, а вот почему оказался один на Фонтанке, у Обуховского моста? Подошли две женщины, что-то хотели узнать: как куда-то пройти, что ли… Обстрел начался неожиданно. Он юркнул в парадную, зажался в угол, подальше от двери, от близких взрывов, содрогаясь вместе с домом. Но ни громкое дыхание, ни стук сердца не заглушали близкие взрывы и визг в небе. Он без надежды прощупал взглядом каждую ступеньку лестницы – не было здесь безопасного места, как не было его и дома с мамой. Когда утихло, он выглянул на улицу. Женщины лежали недалеко и были тем, чем мог бы быть он. Рядом с ними из сугроба высовывалась потемневшая одеревенелая рука.
…Дед очнулся в темноте от стука метронома. Старик потряс головой. Очки свалились с мокрого от слез лица, метроном исчез: это Вовка, вырвавшийся от приготовления уроков, дубасил палкой по картонной коробке. Старик, вздыхая, встал, упрятал тетрадку глубоко в стол. Скорбные мысли, обращенные в слова, покинули его, а потому дед объявил Вовке, что на «урок мужества» пойдет, если только будет хорошо себя чувствовать.
Назавтра, проснувшись, он никак не мог вспомнить, что же такое неприятное должно случиться именно сегодня. Мылся, одевался, кровать убирал – и не мог вспомнить, никак не мог. За завтраком, когда кашу ел, вспомнил. Стало еще тяжелее, но он знал, что в школу не пойдет.
После завтрака дед надел удобные валяные чуни и меховые варежки, натянул ушанку с опущенными ушами по самые совиные брови; приподняв бороду, укутал шею мохнатым теплым шарфом, взял палку и вышел на улицу. И с каждым шагом в противоположном от школы направлении он чувствовал себя все более и более свободным.
И оттого, что убежал ото всех, в аптеке дед оказался в чрезвычайно веселым расположении духа, а покупая привычные лекарства впрок, даже, нагнувшись к окошечку, оригинальнейшим образом пошутил с аптекаршей:
У меня давно ангинаСкарлатина, холерина,Дифтерит, аппендицит,Малярия и бронхит.Девушка-аптекарша, как ему показалась, его не поняла. Окостенев, она сохраняла внешнюю невозмутимость – как и полагалось при работе с клиентами в тяжелых случаях.
– Что делать, классиков не читают! Молодежь! – Дед задорно ей подмигнул. Девушка опять не поняла:
– Вам чего, женщина?
– Ах, это не мне… – Чуть смутившись, дед отошел от окошечка.
И тем не менее все складывалось на редкость удачно: и лекарства он купил, и «Ессентуки» нужного, как опять-таки пошутил, размера; даже, когда домой спешил, ловко увернулся от белого джипа, выезжающего на дорогу.
И хотя дома деда встретили молчанием, он рад был, что никого не послушался, и к тетрадке с мемуарами он никогда не притронется…
В тоненькой школьной тетрадке, беспорядочно, на разных строчках и страницах под Вовкиным заголовком «Домашняя работа» было написано корявой рукой:
холоднообстрел, их убило,страшнотемноумер,съел мамин хлеб, говорит, есть не хочутемностук в дверь, шагихохочет, сошел с ума, зверьумер, голодстрашнотемнометроном.Это были не мемуары с крайне любопытными бытовыми зарисовками – это был прорвавшийся из прошлого ужас.
По расписанию у Людмилы Алексеевны должен быть классный час, но поскольку на носу 23 Февраля, он заменялся на «урок мужества» с воспоминаниями ветеранов. Где их взять, этих ветеранов, и чтобы в своем уме? Накануне Новиков из ее класса пообещал, что его дедушка-блокадник придет, если будет себя хорошо чувствовать.
Людмила Алексеевна запаниковала было, подумав, что это дедушкина форма отказа. Ее мама, посвященная во все подробности учебного процесса, посоветовала позвонить своему соседу по подъезду; тот на д Мая всегда при медалях ходит. А что, если сейчас в класс одновременно явятся два полуглухих, незнакомых и уж точно полоумных, повернутых на политике старика? Сколько будет крику и ругани, дуэтом, не слушая друг друга, перед детьми…
Людмила Алексеевна вздрогнула: нет, лучше она сама проведет в классе этот «урок мужества»! Она – учительница французского, мать двоих детей, одиночка. Оставшееся время посвятит классному руководству. К счастью, никто из стариков не появился. Новиков поторчал в дверях класса, поговорил с кем-то по телефону и понуро поплелся к своей парте.
«Оно и к лучшему», – подумала Людмила Алексеевна, глядя на него. Зазвенел звонок, и она только успела открыть рот, как в класс вошел ветеран, мамин сосед. Не вошел – явился, вплыл, торжественно наодеколоненный какой-то дрянью, при медалях, в отглаженном добротном костюме, диссонирующем с дрябло висящей стариковской кожей. Людмила Алексеевна устыдилась своих мыслей: для нее этот «урок мужества» – галочка, причем не самая приятная, а для старика – событие.
– Ребята, к нам в гости пришел замечательный человек, ветеран Великой Отечественной войны Иван Акимович Петушков. Похлопаем ему!
Акимыч смутился.
– Иван Акимович, проходите, садитесь за мой стол, пожалуйста! – Людмила Алексеевна отошла за последнюю парту, чтобы лучше видеть, чем сорок пять минут будет заниматься ее класс: двадцать пять человек в возрасте одиннадцати-двенадцати лет.
Акимыч зашагал от двери к учительскому столу. Старик устал, он даже непроизвольно наклонился вперед, чтобы быстрее добраться до стула. Выглядело это комично: ряды медалей свободно болтались и позвякивали, пиджак сзади топорщился в виде журавлиного хвоста, выставленная вперед желтая узловатая рука искала спасительную спинку стула. Наконец она была поймана.
Акимыч, с грохотом отодвинув стул, плюхнулся на него, весомо выдержав паузу, солидно откашлялся и начал:
– Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз… Первые дни войны… героическая оборона Брестской крепости… всюду организовывались партизанские отряды…
Голос у Акимыча был зычный, командный, и ребята быстро присмирели. Когда ветеран добрался до героического подвига жителей блокадного Ленинграда, Новиков приуныл. Людмила Алексеевна видела, как он повесил голову, сник, но вскоре принялся рисовать смешную рожицу на клочке бумаги.
– Иван Акимович, расскажите нам что-нибудь из своей фронтовой жизни. – Людмила Алексеевна сама бы могла провести такой «урок мужества» – разве что без блеска медалей.
– Мои воспоминания… – Акимыч сурово нахмурил одну бровь. – Тяжелое время было, ребята, очень тяжелое… Вот в партизанский отряд, например, забрасывали, ночью забрасывали с самолетов, чтоб фашисты не видели. А партизаны внизу, они костры, значит, развели треугольником, чтоб самолеты видели, где парашютистов сбрасывать. Летчик-то не знает, партизаны те костры развели или диверсанты и предатели… Самолеты у нас не простые были, У-2 назывались. Они низко так летали. Летчики туда не хотели идти, девчата на них летали…
Людмила Алексеевна насторожилась: сюжетик показался ей слишком знакомым, но дети слушали.
– Ох, девчата эти песни любили! А как они плясали… Закружится так лихо под гармошку! Э-э-э-эх! Но и среди наших ребят летчиков, ого-го, какие таланты были! Летчик один у нас замечательно пел песню про смуглянку. Так его Смуглянкой и звали, а смуглянка – это же девушка!
Ребята засмеялись, засмеялся и Акимыч. Он как-то быстро и легко стал детям своим.
Людмила Алексеевна смотрела на разговорившегося старика и с грустью думала: «Вот она, старость!» Сидит дед, сухой, как палка, как ее указка у доски. Бледно-желтая, с пигментными пятнами кожа обтянула лысую, с бородавками, башку, которая уже не помнит, что было с ним, а что – в телевизоре. В повествовании о героической фронтовой жизни Акимыча Людмила Алексеевна насчитала не то пять, не то шесть фильмов. А сколько было склеротически пересказанных до неузнаваемости? Вот так и она когда-нибудь будет своим внукам воспоминания на уши вешать, искренне веря во весь тот бред, что несет.
– … предатели Родины…Иосиф Виссарионович…
Людмила Алексеевна вздрогнула: этого она боялась больше всего.
– Иван Акимович, мы вам очень благодарны за то, что вы пришли. – Она посмотрела на часы: до конца урока пять минут. Продержится! Людмила Алексеевна нейтрализовала Акимыча, мажорно заговорив и об уважении к старшим, и о любви к Родине, и о том, о чем необходимо было сказать на классном часе; Акимыч победоносно оглядывал класс.
Перед тем как вручить старику три чахлые гвоздички и коробку конфет, купленные на скудные деньги родительского комитета, она попросила его сказать что-нибудь напоследок. Акимыч поведал о том, как важно учиться и спортом заниматься; мальчики должны воинами быть, да и девчатам не следует отставать. Прозвенел звонок. Тут только дети загудели – Акимыч держал в напряжении класс весь урок. Это был подлинный триумф.
Старик, стоя в коридоре, испытывал почти головокружительную легкость. Он бы даже побежал сейчас, как мог, в душный класс к детям, к грязной доске с разводами мела – ко всему тому, что дало ему острейшее ощущение полета, счастья. Акимыч оглянулся, но дверь уже была закрыта.
– Эх! – махнул он рукой. – Еще раз приду, обязательно приду!
В том, что его позовут скоро, очень скоро – может быть, даже на следующей неделе, – Акимыч ничуть не сомневался: он видел, как его слушали!
Но старик не заметил, как исчезла учительница; как шмыгнул мимо пацан с точно такой же коробкой и гвоздиками для дедушки. Радость переполняла Акимыча, но не только она одна, еще и гордость за себя; за свой аккуратно отглаженный костюм с тремя рядами медалей; за белоснежную рубашку и галстук; за красные цветы в руках.
Акимыч спустился с третьего этажа в гардероб, и все шныряющие взад и вперед ребятишки почтительно обегали его: идет ветеран, герой. Гардеробщица помогла надеть ему пальто, а он, не привыкший к такому обхождению, все не мог попасть в рукав.
– Ах ты, господи! – добродушно сокрушался он. – Ну, спасибо, голубушка, спасибо!
Голубушка расплылась в улыбке.
Акимыч вышел на улицу и сразу понял: праздник закончился. Двери школы захлопнулись, и теперь он опять просто дед, согбенно и медленно идущий по улице. Ну, пусть с цветами и конфетами, но все равно – обычный старик. Грустно… Но ему звонко запела синица, и не одна. Акимыч весело подмигнул сам себе. Ничего, прорвемся! Господи, сокрушался Акимыч, ну почему он в школу к детям пришел так поздно, почему не ходил раньше? И хватит ли у него времени все поправить? Это ведь правда, что дети – наше будущее…
Он брел домой. Тротуар был не то скользкий, не то мокрый – конец зимы. Акимыч не торопился, шел медленно и осторожно.
Правильно старуха ему дома говорила: «Не ходи, упадешь!» А он молча хлопнул дверью, еще и палку не взял, дурак, постеснялся ребят: с медалями – и с палкой.
И Акимыч не упал бы, но виной всему был идущий навстречу старик, отклячивший зад, переставлявший ноги, ничего не замечавший вокруг себя. Вдобавок этот старик задел Акимыча своей палкой. Тот не удержался, замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но успел только выкрикнуть фальцетом: «Стервец!» – и нырнул под колеса медленно выезжающего белоснежно-блестящего джипа с двумя грязно-черными капельками на морде.
«Стервец» адресовано было в пустоту, в никуда: дед, «подрезавший» Акимыча, был рассеян и глух и потому, как ни в чем не бывало, топал своей дорогой, не ведая, что он – стервец. Зато выскочивший из машины крепкий парень без слов схватил Акимыча одной рукой за шкирку, другой – за штаны на заднице и легко отбросил в сугроб. Он бросил его, как бросают мешок с мусором, хлам, и парню этому было абсолютно безразлично, кто и по какому поводу «стервец».
Так Акимыч очутился на вершине сугроба, дрыгая ногами, не достающими до земли. Крепко, как последнюю пядь земли, он обнял этот сугроб, боясь съехать на брюхе в лужу, в которой уже лежал ранее. Мысль, что его дергающийся зад, расчехленный развевающимися полами пальто, увидят школьники, придала Акимычу сил.
Он повернулся на бок и уселся. Сидел, как на насесте, крутил головой, пытаясь сориентироваться. От вращения в горизонтальное положение под колеса и обратно, в вертикальное на сугробе, он запутался, в какой стороне дом, но вытянутая вперед рука, как флаг, продолжала сжимать три революционные гвоздики с надломленными головками. Акимыч, разглядев «букет», в сердцах отбросил его.
Никого вокруг не было. Парень на джипе укатил так же молча, как и освободил проезжую часть. Дед, из-за которого Акимыч упал, даже не оглянулся, подлец. Ругаться было не с кем. Не было ни свидетелей его позора, ни прохожих, ни какой-нибудь старухи-квашни, способной его пожалеть, отряхнуть и помочь, причитая, слезть с грязного сугроба.
Варежки Акимыча промокли, кальсоны задрались к коленям, под резинки носков забился грубый жесткий снег. Стало ужасно жалко себя, и, сперва тонко-тонко и пискляво, но с каждым вздохом и всхлипом все горше и громче, Акимыч завыл. Слезы выкатывались и липли одна к другой где-то между тощим кадыком и шарфом.
Сделалось сразу мокро и зябко. При этом зад у Акимыча был совершенно сухой, но он ощутил им вселенский мертвецкий холод. Этот холод медленно шел из-под промерзшей земли, и он тянул Акимыча туда, вниз, сквозь остекленевшие сугробы. Так было в первый год его работы на Соловках…
Мальчишкой Акимыч был совсем, птенцом, неоперившимся. Когда охрана из церкви-изолятора на горе выволокла мужика, бородатого такого, невысокого… Тот все приговаривал: «Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте…» Окал мужичок; может, одних мест он был с Акимычем, а может, и нет. Разве сейчас узнаешь? Потащили его к лестнице деревянной, к верхней ступеньке. А было этих ступенек аж четыреста штук! Ноги мужика не слушались, заплетались от страха, а он знай долдонил все одно: «Помилосердствуйте» да «помилосердствуйте».
Попятился Акимыч тогда, цепляясь за него взглядом. Оба они знали: то, что сиюминутно было еще человеком на верхней ступени лестницы, пролетев их четыреста штук, внизу будет даже не телом, а месивом, и этим месивом должен быть провинившийся мужичок. «Поше-е-е-л!» – Некиференко и Стасюк слаженно гаркнули, поднапружились, подкинули мужика, и тот исчез, «пошел».
Крику не было – только стук. Когда затих и он, Акимыч медленно осел в сугроб. Фалды жесткой шинели приподнимались и встали колоколом, винтовка за спиной поползла вверх, ушанка съехала на нос…
…Там, далеко внизу, лежала полоска Белого моря, белого от снега. Ближе к Акимычу оно процарапалось серо-черными стволами редких деревьев. Это был берег. А где море у горизонта поднималось, было небо: бледное, с пеленою облаков…
И облака эти со снегом холодным саваном объяли и сковали Акимыча.
– Яйца заморозишь! – он очнулся. Нос точно замерз и покраснел до прозрачности. Акимыч потер нос и даже куда-то пошел, но куда бы он ни шел, он везде за ним плелся покойный мужичок, а товарищи из охраны буравили их обоих глазами. Темнота, в которой можно скрыться, не наступала. Бесконечен был тогда этот короткий северный день.