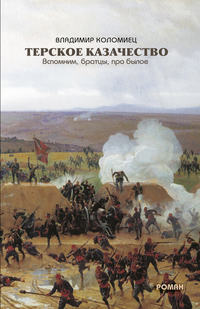Полная версия
От Терека до Карпат
– Владимир Александрович! Я призвал вас всех сюда вовсе не для повторения мобилизационного плана, а для решения вопроса частичной мобилизации… – При этих словах Сазонов, Коковцев и Рухлов удивленно переглянулись, как будто впервые услышали повестку столь важного совещания. Царь продолжал: – Теперь, когда на Балканах разгорается война, нам необходимо усилить состав войсковых частей, стоящих близ границ. Ведь вы сами вчера на совещании с командующими войсками Киевского и Варшавского военных округов предлагали произвести мобилизацию Киевского и подготовить частичную мобилизацию Одесского округов?! Я особенно подчеркиваю, что вопрос идет только о нашем фронте против Австрии, и не имею решительно в виду предпринимать чего-либо против Германии. Наши отношения с ней не оставляют желать ничего лучшего, и я имею основания полагаться на поддержку моего брата императора Вильгельма… Объясните же не диспозицию вообще, а надобность в мобилизации господам министрам.
– Ваше Величество, – я не имею прибавить ничего к столь ясно выраженным вами мыслям. Тем более все телеграммы о мобилизации уже заготовлены и будут отправлены сегодня же, как только закончится наше совещание.
– Военный министр предполагал объявить мобилизацию еще вчера, – сказал Николай, обращаясь к графу Коковцеву, – но я предложил ему обождать еще один день, так как я предпочитаю переговорить с теми министрами, которых полезно предупредить заранее, прежде чем будет отдано распоряжение.
С величайшим изумлением три министра переглядывались между собою. Иногда они бросали выразительные взгляды на Сухомлинова, который уселся на свое место, как ни в чем не бывало. Видимо, только присутствие государя сдерживало бурное проявление ими чувства ярости в адрес того, кто подготовил за их спиной и согласовал с царем решение такого вопроса, который прямо влиял на судьбу европейской войны или мира.
– Начинайте хоть бы вы, Владимир Николаевич! – обратился царь к Коковцеву.
Тот возбужденно вскочил, но сразу же овладел собой.
– Государь, я прошу заранее извинения, что не смогу, вероятно, найти достаточно сдержанности, чтобы спокойно изложить все то, что так неожиданно встало передо мной. Очевидно, государь, ваши советники – военный министр и два командующих округами – не поняли, в какую беду ввергают они вас и Россию, высказываясь за мобилизацию двух военных округов. Они, очевидно, не разъяснили вам, Ваше Величество, что толкают страну прямо на войну с Германией и Австрией, не понимая того, что при нынешнем состоянии наших вооруженных сил, которое хорошо известно нам всем, – министр-председатель обвел рукой гражданских министров, – только тот, кто не отдает себе отчета в роковых последствиях, может с легким сердцем допускать возможность войны, даже не применив всех мер, способных предотвратить катастрофу…
– Я так же, как и вы, Владимир Николаевич, – перебил Коковцева Николай II, – не допускаю и мысли о войне сейчас. Мы к ней не готовы, и вы очень правильно называете легкомыслием самую мысль о войне. Но речь у нас идет о войне, а не о простой предосторожности для пополнения рядов нашей слабой армии. О том, чтобы приблизить несколько к границе войсковые части, слишком оттянутые назад.
– Государь, но, как бы мы ни смотрели на проектированные нами меры, – снова возбужденно вымолвил Коковцев, – мобилизация остается мобилизацией, о ней станет сразу же известно нашим противникам. Они ответят на нее тоже мобилизацией, а может быть, даже и войною, к которой Германия давно готовится и ждет повода начать.
– Вы преувеличиваете, Владимир Николаевич, – снова прервал графа Николай, – я и не думаю мобилизовать наши части против Германии, с которой мы поддерживаем самые добрососедские отношения. Немцы не вызывают у нас никакой тревоги. Между тем Австрия настроена определенно враждебно.
– Ваше величество, но позвольте высказать основополагающую мысль о том, что невозможно относиться раздельно к Австрии и Германии, – дрожащим от обиды голосом продолжал Коковцев, – поскольку обе связаны союзным договором и солидарны между собой. Мобилизуя части нашей армии, мы берем тяжелую ответственность не только перед своей страной, но и перед союзною с нами Францией… Ведь по нашему военному соглашению с Францией мы не имеем права предпринять что-либо, не войдя в предварительное сношение с нашим союзником.
– А что вы предлагаете для выхода из положения, Владимир Николаевич? – проявил вдруг интерес к предмету обсуждения Николай.
Коковцев размышлял с минуту, а потом его глаза загорелись идеей.
– Взамен такой роковой меры, как мобилизация, Ваше Величество, можно воспользоваться той статьей устава о воинской повинности, которая дает право Вашему Величеству простым указом Сенату задержать на шесть месяцев весь последний срок службы по всей России и этим путем увеличить сразу на четверть состав нашей армии. Таким образом, к весне, к самой опасной поре в смысле развязывания противником войны, во всех полках под знаменами у нас будет пять сроков службы, но никто не сможет упрекнуть нас в разжигании войны.
– Сергей Дмитриевич, а каково ваше мнение по вопросу о мобилизации, – обратился Николай II к министру иностранных дел Сазонову.
Сазонов проворно поднялся со своего места.
– Полагаю, Ваше Величество, что граф Коковцев вполне прав. Я сам был поражен здесь, когда узнал о готовящейся катастрофе. Удивительно, как Владимир Александрович, – он посмотрел в сторону Сухомлинова, – не учел, что мы и прав-то не имеем на такую меру без соглашения с нашими союзниками, даже если бы мы и были готовы к войне, а не только теперь, когда мы к ней совершенно не готовы.
Затем царь предоставил слово Рухлову. Министр путей сообщения горячо поддержал министра-председателя, но с оговоркой.
– Я не разделяю вообще мрачного взгляда на состояние нашей обороны, – заявил он, – ибо никогда и ни одна страна не бывает полностью готова к войне. Но браться за мобилизацию сейчас весьма опасно как с точки зрения провоцирования Австрии и Германии, так и с точки зрения перевозки больших масс новобранцев.
Николай поблагодарил кивком головы министра, а затем обратился к Сухомлинову.
– А как вы охарактеризуете боеготовность австро-венгерской армии.
Волновавшийся до той поры Сухомлинов, выслушав выступления министров, сразу успокоился и уверенно начал:
– Ваше Императорское величество! Австровенгерская Армия, как по величине, так и по обученности, являет собой весьма серьезного противника. Ее офицерский состав по специальной военной подготовке вряд ли уступает российскому, хотя острота германо-славянской проблемы, когда большинство населения империи состоит из славян, а большинство офицеров в армии – немцы, значительно ослабляет боеспособность частей. Во главе армии стоит популярный в среде офицерства начальник Генерального штаба Конрад фон Гетцендорф. Его авторитет признает даже германское офицерство, которое считает его выдающимся военачальником. У фон Гетцендорфа мы нащупали чрезвычайно важное для нас слабое место – со времен командования им дивизией в Тироле Конрад считает себя особым знатоком горной войны, и большее значение он придает итальянскому театру войны по сравнению с галицийским.
Царь вежливо демонстрировал свое внимание и Сухомлинову ничего на оставалось, как продолжать экспромтом свой доклад:
– По документальным данным, главным направлением, где уже сейчас, в мирное время, сосредотачиваются австрийские армии, является Восточная Галиция. Главная масса австрийских полков располагается вдоль линии железной дороги Краков – Львов, обращаясь фронтом на север, к стороне Варшавского военного округа.
Чтобы доклад сделался нагляднее, Сухомлинов подошел к карте и продолжил, водя подвернувшейся указкой по просторам огромного полотнища.
– Как мы полагаем, такой район сосредоточения австрийских армий выбран под давлением германского Генерального штаба, опасающегося за Восточную Пруссию и желающего всеми силами предохранить ее от развертывания русских армий. В силу подобной концентрации австровенгерских войск можно сделать вывод, что главное направление, которое избрали германцы для начала войны, – на Францию. Германская армия мнит французов своим главным и опаснейшим противником, против которого направляет полуторамиллионную армию, могущую сформироваться уже на десятый день мобилизации. Доктрина германского Большого генерального штаба, как нам известно, рассчитывает на быстрый разгром Франции и обращение затем всеми силами против России. При этом учитывается относительная длительность нашей мобилизации.
– Интересно, интересно, – вяло сказал царь, теребя аксельбант, – расскажите нам теперь о недостатках австрийской армии поподробнее…
Сухомлинов, готовившийся к такому докладу, изучил все донесения и справки, поступающие по этой теме в штаб, и сейчас был во всеоружии.
– Армия Австро-Венгрии хотя и сильный противник, но не является передовой по сравнению с нашей армией ни в отношении организации и обученности, ни по своей технике, – начал он. – Она состоит из трех главных частей: общей армии для обеих основных половин государства – содержится на общий бюджет монархии, – австрийского ландвера с его ландштурмом и венгерского ландвера, называемого гонвед, в состав которого входит также ландштурм. Эти особые формирования для Австрии и Венгрии содержатся на средства каждой из половин государства. По обученности ландвер слабее общей армии, а ландштурм – даже слабее ландвера. Служба во всех трех частях армии установлена в 12 лет: два года – под знаменами (для кавалерии и артиллерии – 3 года), восемь и соответственно семь лет – в резерве общей армии и 2 года в резерве обоих ландверов. При общей численности населения империи в 45 миллионов человек ежегодный призыв исчисляется в полмиллиона человек. К числу крупных недостатков австро-венгерской армии относится слабое оснащение воздушными силами по сравнению с другими европейскими армиями и нашей армией.
Артиллерия Австро-Венгерской империи находится теперь в переходном периоде, главный недостаток – бронзовые орудия сохраняются повсеместно. Артиллерия, кроме того, малочисленна, особенно тяжелая.
Затем Сухомлинов перешел к главному, принципиальному недостатку австро-венгерской армии, проистекавшему из так называемой «лоскутности» всей монархии, объединившей под короной Габсбургов земли многих балканских народов.
– Армия нашего вероятного противника на юго-западе – единственная в своем роде по национальному составу. Еще Наполеон утверждал, что это является слабой стороной воинских формирований. Так, процентный состав армии Австро-Венгрии по национальностям следующий: немцев, то есть австрийцев – 29 процентов, или меньше одной трети, славян – 47 процентов, или почти половина, мадьяр – 18 процентов, румын – 5 процентов и итальянцев – один процент. Сильнейшими частями являются мадьярские. Корпус офицеров, несмотря на многонациональный состав, хорошо обучен и превосходит в этом даже своих союзников – прусское офицерство. Командный язык всей армии – немецкий, но обучение ведется в национальных полках на родном языке…
– Спасибо, Владимир Александрович, – прервал доклад Сухомлинова царь и обратился к присутствующим:
– Так что будем делать?
За всех ответил Сухомлинов:
– Я согласен с мнением председателя Совета и прошу разрешения послать телеграммы генералам Иванову и Скалону, что мобилизации проводить не следует.
Часть первая
С Богом, Терцы! Не робея
На Карпатах, на Карпатах,Под австрийский свист и вой,Потерял казак папахуВместе с русой головой…Из казачьей песниГлава I
Лето было в разгаре. Солнце обливало землю горячим зноем. Травы давно выгорели, хлеба пожелтели, и когда налетал ветерок, тугие колосья, ударяясь друг о друга, тихо звенели, перекатываясь волнами.
На Тереке созрел урожай, поспевали огороды, стояла жара.
Накаленный дрожащий воздух, будто вырвавшись из горячей печи, дышал жаром, обжигая лицо. Кое-где хлеба начали осыпаться, поэтому станичники срочно приступили к уборке.
Никита Казей вместе с женой Мариной и трехлетним сынишкой тоже выехали в поле.
– На Черной речке пшеничка непременно под серп, – делится с женой Никита, – а на барабане[2] подкузьмила – за волосы придется драть.
– Жаль, ей бы еще дождичка, да Бог не дал, – отвечала Марина, внимательно осматривая хлебную ниву.
Выйдя в поле, они увидели, что недалеко от их загона начал жать свой клин Алексей Чумак. Рядом с ним – жена Наташа, раздобревшая в сером сарафане.
– Вон Зазуля жнет, а там Кужуховские, – заметила Марина.
– Здорово, Илья Максимович! – крикнул Никита, низко кланяясь пожилому казаку. На поле Кульбаки уже виднелись копны.
– Здорово, здорово! – ответил тот. – И ты, Никита Петрович решил жать? – уважительно спросил он Казея.
– Что ж от всех отставать. Сейчас та пора, что как говорят: День год кормит, – правда, дядя?
– И то верно, – отвечал Кульбака.
Никита вспомнил, как весной они вместе здесь сеяли. За работой он на время забылся, а когда очнулся, смотрит, Илья скинул самотканые серые портки, повесил их на телеге и без штанов, прикрывая рубашкой неудобное место, начал рассеивать пшеницу.
Ох и смеялся тогда Никита, а Илья Максимович уверял:
– Старики еще баили: без портков сей – уродится… Ты не гляди, чего согнулся? Посмотришь по осени.
Потом Никита часто заглядывал на этот участок. Пшеничка тут пыжилась зеленью, кудрявилась, и совсем недавно он видел – колос пшенички большой, от тяжести к земле клонится, а на соседних участках пшеничка низенькая, остроносенькая.
– Ну, что примета старинная, оправдывается? – с шуткой обратился Никита к Кульбаке.
Илья засмеялся и, свернув жгут, туго перепоясал сноп пшеницы, тряхнул им, твердо поставил на землю, гладя наливные колосья.
– Пшеничка что надо! Эх, сама рука с радостью жнет! – ответил он.
– А у тебя, Никита Петрович, тоже ничего?
– Слава Богу, неплохая.
– Да-а. Тебе тоже повезло. – Кульбака чуть-чуть улыбнулся.
Алексей повернулся к Марине и маленькому Лешке.
– Наша пшеничка – золото, правда? – обратился он к жене.
– Хороша, хороша, – поддакнула та.
– Хоть в штанах сеяли, – пошутил Илья. – А если бы без штанов? Что бы тут было? Топором рубить довелось бы… Хо-хо!
Они дружно приступили к работе. От пшеницы поднималась пыль. Она лезла в горло, ела глаза. Солнце пекло спины.
– Тьфу, – отплевывался Никита, как назло, ни одной тучки. Ну чего палит? – Хотя сам мысленно благодарил погоду.
Кульбаки кончили очередную делянку, брякнули серпами и быстро стали стаскивать снопы. Илья складывал копны. Снопы вертелись у него в руках проворно, легко, как игрушки, – и сам-то он был похож на колосистый, наливной сноп.
А по другую сторону от Казея работали Чумаки. Алексей, работая косой, утяжеленной грабельцами, с хрустом срезал отягощенные колосьями стебли. Скоро, утомившись, он остановился, вытер пот со лба и стал наблюдать, как проворно его Наташа собирала сноп и после рукопашной борьбы с ним бросала его на лопатки, давила коленом, вязала его и, гордая победой, весело кидалась в новую схватку.
– Скосить – дело не хитрое, – сам себе говорил Алексей. – Главное тут – чтобы скошенный рядок получался ровным, тогда бабе легче вязать. За иным косцом идти – одно удовольствие, за другим – мука смертная, так напутает он и накуралесит. – И, довольный собой, продолжил косьбу.
А у Наташи в это время сжималось все в утробе, точно кто-то большими клещами туго стиснул ей поясницу. Она украдкой охнула.
Алексей посмотрел на ее помрачневшее лицо и застыл.
– Ты что это заохала? – с жалостью спросил он.
Наташа промолчала.
– Ты не родить ли на меже задумала? – спросил он уже серьезней. – И не думай… Ишь нашла место.
– Да нет, – ответила Наташа, – просто устала.
– Давай обедать, – предложил Алексей, увидев, что и соседи располагаются в тени под бричкой.
После обеда Наташа еле поднялась: ноги затекли, они были, словно набитые песком мешки. Настроение совсем упало.
Но тут к ней подошла жена Казея – Марина.
– Наташ! А ты никак родить хочешь? – шутя повела она разговор.
– Угу… А то как же? Работнички нужны, – улыбнувшись через силу, ответила Наташа и посмотрела на Алексея.
– Ух ты, сатана, а молчала, – упрекнула ее Марина.
– Молчала? Чай, об этом не кричат всем? – проговорила Наташа.
– Какой месяц пошел?
– Третий, – солгала Наташа.
– Пойдемте на Терек, посидим немножко в теньке, – предложила Марина.
Она обняла Наташу и пошла рядом. У Наташи появилась синева под глазами, быстрый шаг пропал: она шла в ногу с Мариной, а ступала осторожно, ровно под ногами не пожелтевшая трава стелилась, а разбросанные горячие угли. И спина у Наташи чуть откинулась, но ядреностью, здоровьем наливалось, набухало тело, и в глазах горел яркий летний день.
А Никита с Алексеем шли чуть-чуть позади, и каждый думал о своем.
Казей, осматривая округу, вспоминал: ведь здесь же случилось то первое, когда-то, у них с Мариной. Молодая и сочная, как спелое анисовое яблоко, сидела под одинокой ольхой, аукала, смолкала, шевеля раскрасневшимися губами, прислушивалась к тому, как эхом перекатывается ее зов, и снова аукала протяжно, долго, будто кукушка.
«A-а… вот она, Марина», – мелькнуло у него, и он кинулся к ней, перепоясал руками ее тоскующее горячее тело, еле заметив, как у нее страхом блеснули глаза.
Вскоре он сидел около Марины, смотрел на ее растрепанную голову с ольховыми сережками на затылке, на измятое, вздернутое платье, оголяющее розовую чашечку колена, – думая о том, как все это просто, и, видя, что она склонилась, словно подшибленный стебель подсолнуха, говорил тихо:
– Ты, Марьян, не серчай на меня, поняла?
Марина поднялась, отряхнулась и, не откликаясь на ауканье подруг, тихо побрела мелколесьем, забыв около него лукошко.
– Марь! Ты это… – Никита поднял лукошко и, догнав Марину, повесил его на согнутую руку:
– Ты это… Вот сказать не знаю как… А сказал бы… Это тебе надо понять.
Марина остановилась. Лицо, такое спокойное, что казалось – с ней ничего не произошло, просияло.
– Не сержусь я, Никитушка… А то: не эдакая я. А вишь ты, что случилось.
– А глаза? Глаза серчают.
Глаза Марины затуманились лаской, тонкие ноздри дрогнули, губы раскрылись, и Никита вновь уволок ее под куст.
– Сладкий ты… Сильный. Ах ты-ы… Иди, – слышится Никите голос Марины.
Хорошо в этот час на берегу Терека, в тени ив и осин, что растут у воды. Течет мимо река, глядятся в нее плакучие ивы, листва которых даже в безветрие ласково шепчется над головой, навевая дремоту.
«Хорошо было тут с Наташей», – вспоминает Алексей. Посадишь ее рядом, уронишь голову ей на плечо и, закрывши глаза, – наслаждаться прохладой, вдыхать пряный запах леса и девичьего тела, слушать шепот листвы, стрекотанье кузнечиков, лепет возлюбленной и время от времени, дотянувшись до губ ее, пить ее сладостные поцелуи. Плеснет усач под берегом, брызнут врассыпную чернобрюшки, вздрогнет милая и тотчас засмеется сдобным рассыпчатым смехом. Хорошо в этот час опрокинуть ее на спину, целуя смеющийся рот и, незаметно для нее и себя, расстегивая кофту.
Игры с ней начались в прошлом году, когда вдруг обнаружилось, что эта живущая наискось через улицу девчонка, никогда ничем ему не интересная, умеет как-то пройти мимо и так посмотреть и так улыбнуться, что не сразу и забудешь. Как солнце в глазах, или удар по башке, или заноза в пальце. Смешно и непонятно: сколько помнит себя он – всегда маленькая перед глазами, то с подружками, то в общей компании, когда вместе бегали купаться на речку или играли на поляне.
Отца ее убили на войне, росла она с матерью. Тетя Даша – сухая, неприметная женщина, легкая на ногу и на всякие дела, ходила к Чумакам за молоком или помочь по хозяйству, или так. Иногда присылала Наташу – дело соседское. А тут вышло с Наташей… Прибежала она к ним. Алексей был один. Слазил в погреб, достал крынку с молоком, отдал ей. На пороге щипнул ее за одно место – чего особенного, кажется? Осердилась! Обозвала… Пень косолапый! И локотком этак вот. И крынкой.
Он засмеялся сперва, а потом догадался, что назвала она его очень обидно. Пень – то бы ладно, стерпел бы, но – косолапый! Ведь это намек на походку его. И это казаку? Обиделся он и долго знать не хотел, отворачивался. А она, будто назло ему, зачастила, замелькала перед глазами досадно.
Прошлой осенью отошло – словно что оттаяло, надломилось, и дело приняло другой оборот. Он стал замечать за собой, что досада исчезла, и больше не хотелось отворачиваться, когда встречал он пригожую девушку-соседку. Наоборот, увидит ее – и словно вздрогнет что-то внутри и замрет настороженно, как птица, готовая улететь. И дом ее стал предметом пристальных наблюдений. Сколько раз ловил он себя на том, как, раздвинув герани и отстраняя занавески, он с бьющимся сердцем глядит в боковое окно, ожидая в доме соседки каких-нибудь признаков жизни. Истомленный желанием, он надеялся увидеть ее – или хотя бы тень, или хотя бы кусок ее платья. И страдал, когда приходил в себя, потому что тогда ему становилось неловко и стыдно.
А потом в это дело вмешалась сестра Глаша. Позадумалась, пригляделась и тотчас определила характер Алексеевой хвори. А так как с Наташей они были подружки, то вскорости и лекарство было обнаружено. И вот на Николу, когда возвращались из церкви, Глаша отозвала его в сторонку из ватаги парней, коротко объяснила и рукой подтолкнула:
– Иди, ждет тебя.
За амбаром у Скориковых стояла Наташа, нарядная, пригожая, словно майский цветочек. В праздничной кофте, в сапожках шнурованных с монистом на шее, с желтым расшитым платком на голове. Голубые глаза ее, как два омута, манили и, похоже, смеялись, а пухлые губы и щеки были стыдливо прикрыты концом головного платка.
Постояли, успокаивая сердцебиение, и, не сказав ни слова, пошли.
По дороге разговорились помалу, и стало полегче. А когда нечаянно взялись за руки, стало и совсем хорошо. Очнулись на берегу Терека, оглянулись на станицу и вдруг засмеялись оба неизвестно чему.
Оттуда с колокольни храма Архистратига Михаила падали и катились по-над берегом торжественные звуки праздничного благовеста.
Алексей споткнулся и в недоумении замер. Точно такой же звон катился и сейчас со стороны станицы.
– А это что еще за представление? – задали друг другу работающие в поле и, не находя ответа, оставив работу, обгоняя друг друга, двинулись в станицу.
– Война… – разнеслось вскоре по станице. Черной тучей нависла над станицей эта весть.
Глава II
1Срочно собрался казачий сход.
«От наместника на Кавказе к казакам Терского казачьего войска, – начал зачитывать обращение атаман. – Государь император высочайше повелел объявить Терскую область на военном положении». Нет сомнения, что казаки-терцы, услышав это объявление, задумались, что оно значит.
«Сим дается знать, что хотя война началась на западе, но скоро может разгореться и на юге, ибо враг наш не оставляет злого намерения, воюя с нами, натравить на нас, православных, турок.
Зная, что терцы – народ смышленый, бесстрашный и всегда отважный, я надеюсь, что вы с божьей помощью, не дадите врагу пользоваться нашими трудами».
Слушавшие углубились в себя, но каждый в это время думал о своем, о чем-то тайном, только ему понятном.
– Да, не случайно ворожейка ходила и говорила, что скоро быть войне, – вспомнил кто-то из казаков.
– И откуда она взялась, эта война? – вторил ему другой.
– Как не везет России! – слышалось в толпе. – Во сколько миллионов японская война обошлась, а эта во сколько? Когда же им придет конец, войнам этим!
– Побьем и этих супостатов, куда они денутся! – восторженно произнес молодой казак, на что старый казак Егор Дзюба ответил:
– Побьем-то побьем, а сколько еще казачьих жизней заберет эта война.
– Война ожидается серьезная, – в подтверждение словам Дзюбы сказал атаман. – Мне кажется, всех подберут, без разбору, окромя детей и стариков старых.
– Когда собираться? – спросили атамана, на что он ответил:
– Срок не указали. А приказали готовить две сотни.
Не знал тогда и атаман, что станице придется проводить на войну три присяги: две на турецкий фронт и одну – на германский.
И разговор продолжился.
– Да, много нашего брата понадобится, – проговорил кто-то. Атаман вспыхнул:
– Эх вы, станичники! А кто же царя будет защищать, кто честь России поддержит?
– Эвон куда замахнулся! – в один голос произнесли сразу несколько казаков.
– За нашего царя сам Бог хлопочет – разве мы отстранимся.
Атаману это понравилось, и он, улыбаясь, сказал:
– Полно хмуриться, казаки! Вспомним лучше о былом.
– Сколько ни живи, а два века не проживешь, – не к месту вставил кто-то, на что старый казак сказал: