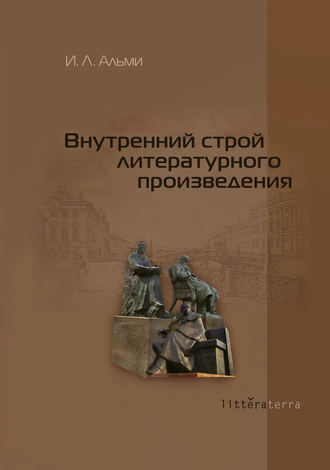
Полная версия
Внутренний строй литературного произведения
Не считаю себя достаточно компетентной, чтобы судить о возможной правоте спорящих (хотя общая антиструктуралистская направленность мысли Вейдле вызывает у меня несомненное сочувствие). Поэтому, отвлекаясь от проблемы, центральной для полемики, хочу предложить сжатый анализ миниатюры, исходящий из совсем иных основополагающих принципов.
Это соприкасающаяся со стержневым аспектом настоящей работы мысль о повышенной субъективности творческого подхода Батюшкова. Об этом важнейшем свойстве метода поэта писал в свое время еще Т. А. Гуковский. Сравнивая стилистику Батюшкова с образными принципами главы направления Жуковского, ученый утверждает: прославленный классик не менее личностен, чем создатель «Невыразимого».
«Описания Батюшкова, – читаем в книге «Пушкин и русские романтики», – столь же малоописательны и столь же субъективны, как и у Жуковского <…>». И ниже: «Поэзия Батюшкова основана на столь же субъективном методе. И она говорит гораздо менее о том, о чем повествуется в стихах, согласно их внешнему смыслу, чем о том сознании, о той душевной жизни, которая сосредоточена в лирическом «я» этих стихов»[44].
Сказанное в точном смысле может быть отнесено к стихотворению «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы». Привожу его текст полностью:
<…>
Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницыПри появлении Аврориных лучей,Но не отдаст тебе багряная денницаСияния протекших днейНе возвратит убежищей прохлады,Где нежились рои красот,И никогда твои порфирны колоннадыСо дна не встанут синих вод [45].Герой стихотворения – город, погрузившийся в волны океана столетия тому назад. Факт этой гибели не имеет сколько-нибудь предметного отношения к бытию лирического героя Батюшкова. И все же исток миниатюры сугубо личностен. Поэтическую мысль рождает толчок сиюминутного ощущения: рассвет— появление «Аврориных лучей» – привносит в мертвый город трепет просыпающейся жизни. Так возникает иллюзия движения. Но оно тут же гаснет, отступая перед неподвижностью заданного знания: прошлое невозвратимо.
Структура стихотворения в главных ее компонентах отражает его образный смысл. Древний город имеет в глазах поэта статус лирического собеседника, а именно существа, способного к живому бытию. Этим обусловлена закономерность диалогического «ты» – формы, сопряженной с характером возникающей иллюзии, хотя сама эта иллюзия являет собой лишь отблеск минувшего. Эта образная градация сказывается в оттенках поэтического словоупотребления. Выражение, фиксирующее момент реальности— «багряная денница», – при всей его интенсивности – уступает в напряженности метафорическому сгустку «сиянье протекших дней». Уступает не только в ощущении непосредственной яркости. Общий объем понятия, продиктованного реальностью, беднее того семантического комплекса, который потенциально содержит метафора, открытая безграничному расширению.
Соответственно и диалогичность, пронизывающая произведение, несет в себе двойную наполненность. Ее создает опора на иллюзорную жизнь настоящего, но – в неменьшей степени – и контакт со сферой легендарного прошлого.
В последних строках стихотворения диалогизм закономерно осложняется присутствием описания – картины прекрасной, но недвижимо мертвой:
И никогда твои порфирны колоннадыСо дна не встанут синих вод.Выполняя роль итога, это описание делает ненужной традиционную финальную сентенцию; оно закругляет миниатюру, сохраняя свойственную ей лирическую распахнутость.
Итак, позволю себе повториться: глубинная верность впечатлению остается для Батюшкова ведущим принципом изображения, даже если его центром оказывается событие, с лирическим «я» не связанное. Как, например, в четвертом фрагменте цикла «Подражания древним». Цитирую его полностью:
Когда в страдании девица отойдет,И труп синеющий остынет,Напрасно на него любовь и амвру льетИ облаком цветов окинет.Бледна, как лилия в лазури васильков,Как восковое изваянье;Нет радости в цветах для вянущих перстов,И суетно благоуханье[46].Приведенный текст являет собой лирическую миниатюру в точном смысле слова. Лаконизм не представляет здесь внешнего качества; он обусловлен кардинальными свойствами творческого подхода. Важнейшее среди них – сопряжение противоположностей: обобщенности и четкости разительных деталей. На минимальном пространстве нет места тем, кого мы привычно называем лицами. Центр возникающей картины – безымянная девица, существо, рожденное для радостей бытия, но застигнутое страданием смерти. Тема произведения, однако, не смерть как таковая (хотя в ней – один из лейтмотивов позднего Батюшкова). Суть происходящего скорее может быть определена как попытка любви (тоже безымянной) как-то преодолеть случившееся или хотя бы украсить его. Попытка тщетная: синеющий труп (деталь, достойная позднего реализма!) сущностно преобразить невозможно.
Сказанное, тем не менее, не означает торжества безобразия. Смерти ведома собственная красота – величавая статуарность застывшего тела. Но она не в ладу с непритязательной прелестью живого. Умершая
Бледна, как лилия в лазури васильков,Как восковое изваянье…Соотношение мертвого и живого начал к концу стихотворения становится по-особому напряженным. Его передает сползание признаков – стилистический прием, в целом присущий гораздо более поздней поэзии. Вянущими у Батюшкова названы не цветы (хотя на пространстве миниатюры они упоминаются неоднократно), а персты— пальцы, утратившие радость осязания цветов. Благоухание же, понятие, воплощающее высшую степень чувственного наслаждения, сочетается с эпитетом суетно; с ним связано ощущение не только тщетности стараний любви, но и почти раздражающего их излишества. И все же ужас близящегося распада приостановлен, его удерживает сила замершего мгновения, а вместе с нею чувство всевластия красоты. Таков неотменяемый закон миниатюры, формы, где преобладающее значение имеет принцип гармонического сопряжения – сближения составляющих. Для Батюшкова это прежде всего уравновешенность полярных начал – бесспорности истины и живой трепетности в ее передаче. Особенно нагляден в этом плане завершающий фрагмент цикла «Подражания древним»:
Ты хочешь меду, сын? – так жала не страшись;Венец победы? – смело к бою!Ты перлов жаждешь – так спустисьНа дно, где крокодил зияет под водою.Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец.Лишь смелым перлы, мед иль гибель… иль венец![47]Динамика обращений и напряженных вопросов, паузы, разрывающие стих, передающий многообразие интонаций устной речи, – все это создает ощущение страстной авторской заинтересованности. Акцентированная субъективность переносит антологическое стихотворение из условного прошлого в настоящее, делает его лирически современным. Однако именно в силу внутренней и внешней раскованности миниатюра Батюшкова – при всем ее совершенстве – не закрепилась в сознании современников как образец жанра. Канон античной надписи в русской поэзии первой трети XIX века был создан Дельвигом.
4Поэт школы Батюшкова, Дельвиг развивал общие принципы его лирики довоенной поры. В своей поэзии он стремился создать целостный образ прекрасного мира и гармонической человеческой души. Изощренная сложность сознания человека девятнадцатого столетия у Дельвига не столько предмет изображения, сколько трамплин для отталкивания. Жанры идиллии и простонародной песни привлекают его возможностью окунуться в мир эмоций души простой и цельной. Его идеал – наивно-патриархальная, величавая Эллада Гомера.
Дельвиг стилизует ранних античных лириков, воссоздает их эпиграмму, эпически-объективную, скульптурно-завершенную, подчиненную главному чувству – пластической гармонии. В поисках отчетливого древнего колорита он имитирует такую специфическую форму античной эпиграммы, как надпись к скульптуре («Надпись на статую Флорентийского Меркурия»). Но и в тех случаях, когда содержание его антологической миниатюры не связано ни со скульптурой, ни с древностью вообще, главным свойством стихотворения все же остается внутренняя пластичность. Очень показательно в этом плане «Утешение»:
Смертный, гонимый людьми и судьбой! Расставался с миром,Злобу людей и судьбы сердцем прости и забудь.К солнцу впоследнее взор обрати, как Руссо, и утешься.В тернах заснувшие здесь, в миртах пробудятся там[48].Ни имя Руссо, ни христианское мировоззрение автора не нарушают антологического колорита. Сердце стихотворения – выделенное из общей цепи бытия, возведенное к вечности мгновение («К солнцу впоследнее взор обрати, как Руссо»…), мгновение, обретающее пластическую обособленность и завершенность. Самим звучанием своего величаво-замедленного стиха поэт сообщал ощущениям современного человека цельность и самодовлеющую значительность, эпичность легендарных гомеровских времен.
Художественная установка Дельвига требовала создания формы, которая и внешне отделила бы надпись от лирики нового типа. Подчеркнуто минимальный размер (2–4 – изредка б строк), элегический дистих, отсутствие рифмы резко очерчивает границы его антологической миниатюры. Поэт создал форму столь определенную, столь завершенную внутренне, что, как замечает Томашевский, «Пушкин для своих антологических стихотворений 30-х годов не стал искать иных путей, кроме проложенных Дельвигом».[49] Однако в лирике Пушкина начала двадцатых годов мы находим целый ряд антологических миниатюр иного рода. Произведения этого типа вообще не сводятся у него к стихотворениям, так или иначе воспроизводящим колорит древности. Полнота, раскованность пушкинского гения сказались и в многообразии, в лирической свободе тех произведений, которые лишь при некотором усилии можно объединить шапкой общего жанра – миниатюры.
5Ранний Пушкин – арзамасский Сверчок – отлично владел той формой безделки (мадригал, надпись к портрету, альбомное пожелание), без которой нельзя представить культуру карамзинизма. К концу 10-х годов он создает в границах этого жанра подлинные шедевры. Лучшие из мадригалов Пушкина несут в себе элементы непосредственного лирического переживания (таковы, например, надписи «К портрету Жуковского», «К портрету Чаадаева»). Но жанр в целом даже у него остается формой, в которой блеск остроумия и красноречия явно преобладает над лирическими потенциями. Лирическая миниатюра в полном смысле слова зачинается у Пушкина антологическими стихотворениями 20-х годов[50]. Это произведения своеобразной и в то же время свободной формы – гораздо менее строгой, чем канон античной надписи Дельвига – позднего Пушкина.
Пушкинский интерес к древним связан, как известно, с его увлечением А. Шенье и с влиянием Батюшкова. При этом, наследуя Батюшкову, Пушкин с гораздо большей смелостью решает те общие проблемы, которые стояли и перед старшим его современником, и перед русской поэзией в целом. В антологических формах он ищет новые средства для выражения лиризма. Как и Батюшков, Пушкин стирает границу между антологическим стихотворением и свободным фрагментом, объединяя под общим названием «Подражания древним» произведения, окрашенные эллинским колоритом («Нереида») и свободные от античных ассоциаций («Ночь»). Но при едином направлении антологические стихотворения Пушкина и Батюшкова различаются своей эмоциональной атмосферой, – ибо глубоко различны типы миросозерцания, положенные в их основу.
Напряженная страстность раннего Пушкина еще лишена батюшковского трагического подтекста. По Пушкину, сущность эллинского восприятия мира не в ощущении безысходной противоречивости бытия, а в культе прекрасного, пронизывающего все сферы жизни. Отсюда – то особое впечатление уравновешенности и полноты, которое производит пушкинская антологическая миниатюра начала 20-х годов. Вот одна из них:
<…>
Хромид в тебя влюблен: он молод и не разУкрадкою вдвоем мы замечали вас;Ты слушаешь его, в безмолвии краснея,Твой взор потупленный желанием горит,И долго после, Дионея,Улыбку нежную лицо твое хранит[51].Внутренний центр стихотворения – гармония мгновения, поднятого до идеала совершенной красоты. И у Дельвига, как уже говорилось, надпись несет в себе как бы увековеченный миг. Но там стихотворение чаще представляет чистое описание или сентенцию. Пушкин же будто задерживает непосредственный поток жизни. В его миниатюре запечатлено некое развивающееся положение вещей. Именно через него и воссоздается ощущение длящегося мгновения. Развертывание темы ощущается в стихотворении вполне отчетливо. Первые две строки лишь вводят в ситуацию. Она рисуется с обнаженностью, достойной античной басни. Известно, однако, что это простейшее с виду начало было найдено поэтом не сразу. В первой редакции стихотворение называлось «Идиллия» и открывалось следующим четверостишьем:
Подруга милая! Я знаю, отчегоТы с нынешней весной от наших игр отстала,Я тайну сердца твоегоДавно, поверь мне, угадала [II, 382].Автор неслучайно снял это начало. Медленный зачин, закономерный в идиллии, не соответствовал лаконичной манере миниатюры. В результате в беловой редакции стихотворения действие развивается без какой бы то ни было подготовки, беспрепятственно обнажая свое естество. В центральных строках повествование сменяется изображением; появляются зримые образы («в безмолвии краснея», «взор потупленный»). Финал же воссоздает мгновение как таковое: миг свидания не торопится исчезнуть; он сохранен в улыбке прекрасного лица. Красота чувств находит для себя пластическое воплощение. Ощущение, близкое пластичности, создает и ритмический рисунок стихотворения. Он предполагает особую протяженность в произнесении имени – Дионея (во всех строках по б стоп, в строке с именем – 5). Даже в протяженности этой – любование редкостным, гармоничным, певучим. В антологических стихотворениях Пушкина присутствует тот момент высокой идеализации, который свойственен античной скульптуре. Лиризм этих стихотворений – лиризм созерцания.
А. Слонимский справедливо считает одним из главных принципов пушкинской лирики – закон пластики и движения, скрытый драматизм, явленную либо внутреннюю активность[52]. Но именно в антологических стихотворениях движение не исключает созерцательности. Оно чаще всего представляет свойство мира, запечатленного в произведении; позиция же лирического «я» – состояние страстного созерцания красоты. При всей непосредственности восприятия такая позиция предполагает некое расстояние между субъектом и объектом— отрешенность от суетности. «<…> Прекрасное должно быть величаво…» в послании «19 октября» эти слова неслучайно связаны с мыслями о Дельвиге. Именно в таком восприятии античности источник тех потенций, в силу которых Пушкин 30-х годов обратится к канону надписи Дельвига – форме, которая и внешне отграничена от непосредственной лирики. Но об этой надписи будет сказано несколько позже. Ее появлению у Пушкина предшествует миниатюра нового типа. Полоса ее расцвета падает на вторую половину 20-х годов; она связана с решительным освобождением поэта от норм канонического жанрового мышления.
В эти годы Пушкин создает миниатюру, близкую стихотворению свободной лирической структуры. По самой природе своей такое произведение редкостно многотемно. Один из его видов – воплощение общей мысли, сконцентрированной в едином символическом, или, скорее, аллегорическом образе. Так, стихотворение «Три ключа» строится по образцу притчи-иносказания. Эмоция выражена здесь опосредованно, внелично. Главный прием выражения мысли – условная ситуация, реализуемая через рационалистическое, почти симметрическое расположение эпизодов (последовательное описание первого, второго, третьего ключа). Однако в многообразнейшей пушкинской лирике такое произведение – форма очень редкая. Чаще единый образ, заполняющий пространство миниатюры, имеет основой непосредственное впечатление, хотя и не ограничивается им. Именно таково одно из известнейших стихотворений, воссоздающих лицо Петербурга. Всмотримся в него.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 1990. С. 106–136.
2
Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 74–87.
3
Чудаков А. Мир Чехова. М., 1966. С. 3–4, 11–12.
4
Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 3–4.
5
Михайлов А. В. О некоторых проблемах современной теории литературы // Известия РАН. Серия литературы и яз. 1994. Т. 53. № 1. С. 21.
6
Хализев В. Е. Теория литературы. М., 1999. С. 158.
7
См. его замечания о романе «Анна Каренина»: «Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» (Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. М., 1928 – 1964. Т. 62. С. 377).
8
Жолковский А. К.гЩеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. М., 1996. С. 51.
9
Аверинцев С. С. Символ: Краткая литературная энциклопедия. М.( 1971. Т. 6. Стлб. 826–831.
10
Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа // Эйзенштейн С. М. Избр. произведения: В б т. М, 1964. Т. III. С. 46.
11
Специфические черты такой целостности выявляет Т. Сильман (см.: Сильман Т. Заметки о лирике. Л., 1977); историческую эволюцию лирических форм в русской литературе исследует Л. Гинзбург (см.: Гинзбург Л. О лирике. Изд. II. Л., 1974).
12
Тютчев Ф. Стихотворения. М.; Л., 1969. С. 136.
13
Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1950. Т. 9. С. 212.
14
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.;Л., 1962. Т. 5. С. 25.
15
Подробнее см. в моей статье «О стихотворении А. С. Пушкина "Лишь розы увядают…"» (Альми И. Л. О поэзии и прозе. СПб., 2002. С. 103–111).
16
Сильман T. Заметки о лирике. Л., 1977. С. 6.
17
Подробнее см. в моей статье «Евгений Баратынский. Характер личностной и творческой эволюции» (Наст, изд., С. 77)
18
Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. М.г 1978. С. 91–92.
19
Пушкин А. С. Поли. собр. соч. М., 1937. Т. 6. С. 179.
20
Пушкин А. С. Там же. С. 179.
21
В комментариях к роману предлагаемая нами трактовка отсутствует. В. Набоков обращает внимание на то, что Пушкин колебался, как определить отношение Татьяны к песне – как внимание либо невнимание к ней (Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Перевод с англ. СПб., 1998. С. 431). Ю. М. Лотман, отмечая общую контрастность «Песни девушек» и по отношению к чувствам героини, и в сопоставленности с рассказом няни, утверждает, что она ориентирована на свадебную лирику со свойственной ей символикой жениха – «вишенья» и невесты – «ягоды» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980. С. 232).
22
Подробнее см. в моей статье «О сюжетно-композиционном строе романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание"» (Альми И. Л. О поэзии и прозе. СПб.г 2002. С. 312–326).
23
Карякин Ю. Самообман Раскольникова. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». М., 1976.
24
Подробнее см. в моей статье «Сюжетно-композиционный строй романа "Идиот"» (Альми И. Л. О поэзии и прозе. СПб., 2002. С. 374–379).
25
Скафтымов А. П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М.( 1972. С. 23–86.
26
Касаткина Т. А. «Рыцарь бедный…» Пушкинская цитата в романе Достоевского // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. М., 1999. № 1. С. 301–308; Кириллова И. А. Христос в жизни и творчестве Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1987. С. 26–45.
27
Именно в этом плане общий смысл романа Достоевского рассматривается в уже указанной книге. Г. С. Померанца. С. 255–301.
28
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 тт. Л., 1973. Т. 20. С. 173.
29
Эйзенштейн С. М. Указ. соч. С. 62.
30
Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1996. С. 160.
31
Губайловский В. Полоса прибоя (о жанре поэтической миниатюры) // Арион. 2003. № 4. С. 75, 77.
32
Сумароков А. П. Избранные произведения. Библиотека поэта. Большая серия. М., 1967. С. 110.
33
Карамзин Н. М. Поли. собр. стих. Библиотека поэта. Большая серия. М.; Л., 1966. С. 312.
34
Лотман Ю. М. Поэзия Карамзина // Там же. С. 28.
35
Там же. С. 39.
36
Там же. С. 40.
37
Там же. С. 114.
38
Там же. С. 115.
39
Карамзин Н.М. Дмитриев И.И. Стихотворения. Библиотека поэта. Малая серия. А., 1958. С. 268.
40
Там же. С. 437.
41
Там же. С. 379.
42
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л., 1972. С. 137–143.
43
Вейдле В. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. М., 2002. С. 220.
44
Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 101, 167.
45
Батюшков К. Н. Сочинения. М., 1955. С. 298.
46
Там же. С. 301.
47
Там же. С. 302.
48
Дельвиг А. А. Поли. собр. стих. Библиотека поэта. Большая серия. Л., 1959. С. 193.
49
Томашевский Б.В. А. А. Дельвиг // Там же. С. 54.
50
Л. Гроссман в статье «Мадригалы Пушкина» (Гроссман Л. Собр. соч.: В 4-х тт. Т. I. М.( 1928) трактует само понятие «мадригал» неоправданно широко. Считая мадригалами такие стихотворения, как «Город пышный, город бедный…» или «К Наташе» («Вянет, вянет лето красно…»), Гроссман видит в развитии мадригала прямой путь к пушкинской любовной элегии. На наш взгляд, концепция эта упрощает сложный вопрос динамики жанров в пушкинской лирике. Более убедительным представляется мнение Д.П. Якубовича о том, что «школой новой пушкинской элегии является "античность", работа над стихотворениями в антологическом роде (Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. Кн. 6. М.; Л., 1941. С. 132).
51
Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 тт. М., 1956. Т. II. С. 56. В дальнейшем произведения Пушкина цитируются по этому изданию; том и страница указываются в тексте.
52
Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1963. С. 91, 97.

