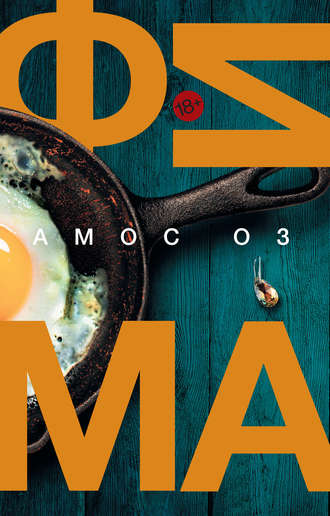
Полная версия
Фима. Третье состояние
Спустя много лет, в начале 1982-го, Тед и Яэль появились у Фимы как-то вечером вместе со своим трехлетним сыном, мальчиком-альбиносом, слегка косящим, такой себе маленький мыслитель в очках с толстыми линзами, в костюме американского астронавта со сверкающим металлическим ярлыком, на котором было выбито слово “Челленджер”. Этот малыш, оказалось, умеет формулировать сложные предложения и ловко обходит деликатные вопросы. Фима моментально влюбился в Дими Тобиаса-младшего и сразу снял свои возражения, предложив Яэль и Теду развод, помощь и дружбу. Впрочем, Яэль не видела никакой особой надобности в религиозном разводе с выдачей разводного письма – “гет”, да и в дружбе не видела никакого смысла: за истекшие годы она успела дважды расстаться с Тедом, пройти еще через несколько связей, вернуться к Теду и родить Дими – “почти в самую последнюю минуту”, как она считала. Фима покорил сердце задумчивого Челленджера рассказом о кровожадном волке, решившем избавиться от привычки поедать других зверей, а заодно и от своей жестокости и кровожадности и присоединиться к колонии кроликов. Когда рассказ закончился, Дими предложил другую концовку, в которой Фима нашел и логику, и утонченность, и юмор.
При непосредственном участии отца Фимы развод и все с ним связанное были совершены без лишнего шума. Тед и Яэль поселились в тихом иерусалимском квартале Бейт ха-Керем, оба нашли работу в одном из исследовательских институтов и каждый год делили на три части: лето – в Сиэтле, осень – в Пасадене, зима и весна – в Иерусалиме. Иногда по субботам они звали Фиму в гости, когда у них собирались семейства и Кропоткиных, и Гефенов, и прочие старые друзья, или оставляли Дими у Фимы в Кирьят Йовеле, уезжая на два-три дня в Эйлат или Верхнюю Галилею. Вечерами они частенько прибегали к добровольным услугам Фимы, и тот присматривал за Дими, с которым всерьез подружился. По странной логике мальчик называл Фиму дедушкой. И отца Фимы он тоже называл дедом. Фима научился с помощью спичек и клея сооружать дома, дворцы и даже замки с бойницами. Это шло вразрез с тем образом Фимы, который сложился у друзей, у Яэль, даже у самого Фимы: этакий неуклюжий растяпа-неудачник, у которого обе руки левые, не способный починить протекающий кран или пришить пуговицу.
Кроме Дими и его родителей была еще компания: люди приятные, уравновешенные, из тех, кто знал Фиму со времен университетских, кое-кто был косвенно связан с приключениями его в “год козла”. Некоторые из них до сих пор надеялись, что в один прекрасный день парень поднимется, отряхнется и, так или иначе, потрясет Иерусалим. “Верно, – говорили они, – он порой действует на нервы, нет у него чувства меры, но в том-то и штука – когда он в ударе, то по-настоящему в ударе. Придет день, и мы еще услышим о нем. Не стоит им пренебрегать. Напротив. К примеру, в прошлую пятницу, до того как начал он дурачиться, пародируя политиков. Как он выхватил прямо из уст Цви Кропоткина слово «ритуал» и буквально приковал нас всех к своим местам, как детей малых, когда вдруг заметил: «Но ведь все на свете – РИТУАЛ». И прямо с ходу начал развивать свою теорию, и целую неделю мы только об этом и говорили. А потрясающее его сравнение Кафки, Гоголя и хасидских притч.
С годами кое-кто из них научился относиться с симпатией к смеси острословия и рассеянности, грусти и воодушевления, утонченности и беспомощности, ума и лени. Всего этого имелось в Фиме в избытке. Да и кроме того, в любой момент его можно было засадить за вычитку статьи либо посоветоваться по поводу набросков намечаемого исследования. За спиной его говорили с теплотой: “Ну что за парень, как бы это выразиться, оригинальный, милый, но – вот загвоздка! – лентяй. Нет у него никаких амбиций. Не думает о завтрашнем дне. Хотя ведь уже не мальчик”.
И все-таки, несмотря на это, что-то в его внешности толстячка, погруженного в раздумья, в его топающей походке, в высоком прекрасном лбе, в его устало поникших плечах, в светлых редеющих волосах, в добрых растерянных глазах, словно они вглядываются внутрь или, напротив, устремлены куда-то поверх гор, – что-то в его облике побуждало людей преисполняться приязнью и радостью, расплываться в улыбке при виде Фимы, бредущего по противоположной стороне улицы с таким видом, словно он и не знает, что привело его в центр города и как отсюда выбраться. И тогда говорили люди: “Вон идет Фима, размахивает руками – наверно, спорит сам с собой и, уж точно, побеждает в споре”.
Со временем возникла и напряженная, полная ярости и противоречий дружба между Фимой и его отцом, Барухом Номбергом, известным производителем парфюмерии и косметики, ветераном правого движения Херут. Даже теперь, когда Фиме исполнилось пятьдесят четыре, а Баруху – восемьдесят два, отец по старой привычке в конце каждой встречи тайком запихивал в карман сына две-три банкноты по двадцать шекелей или одну пятидесятишекелевую купюру. У Фимы тоже имелась тайна: каждый месяц он клал восемьдесят шекелей на счет сына Тед и и Яэль, он открыл для Дими сберегательный счет, о котором никто не знал. И вот уже парню целых десять лет, хотя выглядел он лишь на семь: мечтательный и доверчивый малыш. Бывало, что случайные попутчики в автобусе находили сходство между мальчиком и Фимой – и форма подбородка та же, и лоб, и походка. Минувшей весною Дими упросил разрешить ему завести двух черепах и выводок шелковичных червей, для живности приспособили маленькую балконную кладовку при запущенной кухне в квартале Кирьят Йовель.
И хотя в глазах окружающих, да и в своих собственных Фима слыл лентяем, рассеянным и беспамятным, но тем летом не было ни единого дня, когда бы он забыл почистить и устелить травой тот угол, который он отныне называл “наше змеиное гнездо”. Но настала зима, и шелковичные черви умерли. А черепах выпустили на волю в вади[4], там, где обрывается Иерусалим и начинаются скалы и пустыня.
4. Надежды на новую страницу
Вход в частную клинику в квартале Кирьят Йовель был со двора. Тропинка, вымощенная иерусалимским камнем, огибала садик. Зимою дорожка была усеяна сосновыми иглами, мокрыми и скользкими от дождя. Фиму занимал один вопрос: слышит ли замерзшая маленькая птичка, что сидит на низкой ветке, раскаты грома, прокатившиеся с запада на восток, ведь голову птичка засунула под крыло. Он с сомнением оглянулся, чтобы убедиться, действительно ли он видел птицу или это была просто мокрая сосновая шишка. И тут он поскользнулся и упал на колени. Так и остался стоять на четвереньках, но не от боли, а от злорадного подсмеивания над собой.
– Вот и молодец, дружище, – пробормотал он тихонько.
Почему-то ему казалось, что он заслужил это падение, что оно – логическое продолжение того маленького чуда, которое случилось с ним у подножия высотной гостиницы “Хилтон” по дороге сюда.
Наконец ему удалось подняться, и он стоял в растерянности, под дождем, как человек, не знающий, откуда он пришел, и не имеющий ни малейшего понятия, куда ему следует идти. Он поднял голову, взглянул на верхние этажи здания, но увидел только опущенные жалюзи и окна, наглухо занавешенные шторами. Там и сям на балконах мокли вазоны с геранью, цветам которой дождь придал особый, чувственный оттенок, напомнивший ему накрашенные губы слегка вульгарной женщины.
У входа в клинику висела табличка – элегантная, неброская, из черного стекла с серебряными буквами: “Доктор Варгафтик. Доктор Эйтан. Женские болезни”. В тысячный раз Фима мысленно предъявил претензию вывеске: почему же нет клиник по мужским болезням?
Да и иврит, по мнению Фимы, следовало бы подправить, ибо, как он это формулировал, “язык не терпит”. Однако самому Фиме его же собственная формулировка казалась никчемной и абсурдной – с какой стороны ни взглянуть. Фима ощутил стыд, вспомнив, как утром, услышав в новостях о смерти арабского юноши из лагеря беженцев Джебалия, рассердился из-за оборота “убит пластиковой пулей”.
Но ведь разве у пули есть руки?
Не начали у него, случаем, размягчаться мозги?
Он вновь собрал своих министров на заседание Кабинета в обшарпанном классе. У двери стоял часовой, прошедший боевую подготовку в подпольной военной организации ПАЛМАХ, распущенной с провозглашением Государства Израиль. Был он в шортах цвета хаки, в арабской головной накидке “кафие” поверх вязаной шапки-чулка. Некоторые из министров уселись прямо на полу, у его ног. Иные прислонились к стене, увешанной учебными диаграммами. Короткими, острыми словами он поставил собравшихся перед необходимостью выбора между территориями, захваченными в ходе Шестидневной войны, и сутью нашей личностной идентификации. Затем – а все еще взволнованы и возбуждены его речью – он провел голосование, победил и сразу же подробно объяснил всем министрам оперативный план воплощения в жизнь принятого решения.
До победы в Шестидневной войне, рассуждал он, положение нации было в меньшей степени опасным и разрушительным, чем сейчас. Или, быть может, менее деморализованным и подавленным? Действительно ли нам легче преодолеть угрозу тотального уничтожения, чем оказаться на скамье подсудимых? Угроза уничтожения вселила в нас гордость и чувство единства, а скамья подсудимых, на которую нас усаживает мировое общественное мнение, подавляет наш боевой дух. Но ошибочно именно так представлять стоящий перед нами выбор. Ведь скамья подсудимых подавляет дух только у интеллигенции, той светской интеллигенции, корни которой – в России и на Западе, а народные массы вовсе не тоскуют по гордости Давида, победившего Голиафа. А с другой стороны, “народные массы” – пустое, бессмысленное клише. Но покамест брюки твои все в грязи, как и руки по локоть в грязи, а дождь все сыплет и сыплет прямо на темечко. И на часах уже пять минут второго. Как ни стараешься вовремя прийти на работу, всегда опаздываешь.
Клиника, располагавшаяся на первом этаже, занимала две бывшие квартиры, соединенные в одну. Окна, забранные решетками в арабском стиле, глядели в пустой мокрый иерусалимский двор, затененный сумеречными соснами, у подножий которых торчали там и сям серые острые камни. Шорох крон доносился из сада даже при едва уловимом ветерке. Нынче ветер дул изрядный, и перед глазами Фимы возникла заброшенная деревня в Польше или в одной из прибалтийских стран – ветер ревет в лесах, окруживших деревеньку, бушует в заснеженных полях, свистит в соломенных крышах домишек, звонит в колокола окрестных церквей. И ему вторит волчий вой. Фима почти сочинил небольшой рассказ о деревушке, о нацистах, евреях и партизанах и, может, вечером поведает его Дими, а мальчик покажет ему божью коровку в баночке или космический корабль, вырезанный из апельсиновой корки.
Со второго этажа доносились звуки рояля, скрипки, виолончели: там жили три пожилые дамы – музыкантши, дававшие частные уроки, а иногда они выступали в небольших залах на церемониях, где вручались премии литераторам, пишущим на идише, на вечерах, посвященных памяти Жертв Катастрофы, постигшей евреев в годы Второй мировой войны, на открытиях клубов пенсионеров. Долгие годы работал Фима в этой клинике, но и до сих пор нет-нет да защемит у него сердце, когда слышит он их игру Словно некая внутренняя виолончель отзывается в нем на звуки той виолончели, что поет на втором этаже, отзывается безмолвным звуком страстного желания и томления. И словно воистину с течением лет все укрепляется таинственная, загадочная связь между тем, что делают тут, внизу, с телами женщин, используя щипцы из нержавеющей стали, и печалью мелодий, несущихся сверху.
Доктор Варгафтик смотрел на Фиму – полноватого, неряшливого, улыбающегося смущенной улыбкой ребенка, с коленями и руками, перепачканными грязью, – и, как всегда, вид Фимы вызывал у доктора радость и приязнь, смешанные с сильнейшим желанием как следует отчитать его. Варгафтик был человеком мягким, чуточку трусоватым, из-за повышенной чувствительности глаза его частенько наполнялись слезами, особенно когда кто-нибудь перед ним извинялся. Может, именно поэтому он обычно стремился предстать этаким педантом, едва сдерживающим гнев, запугать всех вокруг, раздавая направо и налево выговоры, грозные окрики, порицания, которые тем не менее в устах его звучали предельно вежливо, дабы ненароком не обидеть кого.
– О! Экселенц! Герр майор-генерал фон Нисан! Прямо из окопов! Необходимо наградить вас медалью!
Фима смущенно ответил:
– Я чуть-чуть опоздал. Сожалею. Поскользнулся тут, у входа. Такой дождь на улице…
Варгафтик зарычал:
– А, точно! Снова это фатальное опоздание! Снова полный форс-мажор!
И в сотый раз поведал Фиме анекдот о покойнике, опоздавшем на собственные похороны.
Доктор Варгафтик был человеком широким, крупнотелым, фигурой походил на контрабас, с лицом красным, рыхлым, припухшим, как у беспробудного пьяницы, испещренным болезненной сеткой кровеносных сосудов, расположенных так близко к коже, что можно было чуть ли не сосчитать удары пульса по подрагиванию капилляров на щеках. В любое время и по любому случаю у него был припасен анекдот, неизменно начинавшийся словами: “Есть всем известная шутка…” И всегда разражался он оглушительным смехом, как только приближался к финалу. Фима, которому до отвращения знакома была причина опоздания покойника на собственные похороны, тем не менее издал легкий смешок, потому что симпатизировал рохле Варгафтику, прикидывающемуся тираном. Доктор обожал громоподобные, с властными нотками, речи о связи, скажем, твоих привычек питания с твоим мировоззрением, или о вечном противостоянии между человеком искусства и человеком науки, или об экономике “социалисмуса” (так он произносил на немецкий лад “социализм”), поощряющей безделье и мошенничество, а посему такая экономика начисто не подходит для нормальной страны. На словах “нормальная страна” доктор Варгафтик таинственно и трепетно понижал голос, так человек верующий говорит о всемогущем Боге.
Фима заметил:
– Пусто у нас сегодня.
Варгафтик сказал, что через несколько минут должна появиться известная художница: небольшая закупорка труб. Слово “трубы” в его гинекологическом аспекте тотчас напомнило доктору известный анекдот, который он немедля и выложил.
А тем временем кошачьей поступью, не издавая ни малейшего звука, из своего кабинета выскользнул доктор Гад Эйтан. За ним появилась сестра Тамар Гринвич, лет сорока пяти, обликом походившая на женщин из когорты пионеров-первопроходцев, что в начале XIX века создавали в Эрец Исраэль сельское хозяйство. Тамар была в голубом форменном платье из хлопка, гладкие волосы собраны на затылке в небольшой пучок, смахивающий на клубок шерсти. В силу странного пигментационного дефекта один глаз у нее был зеленый, а другой карий. Она пересекла зал, где размещалась регистратура, поддерживая бледную пациентку, и ввела ее в боковую комнату, что именовалась “комната восстановления сил”.
Доктор Эйтан, элегантный, пружинистый, оперся о стойку регистратуры и медленно двигал челюстями, пережевывая резинку. Движением подбородка он то ли ответил на приветствие Фимы, то ли на вопрос, который задал ему доктор Варгафтик, а быть может, его ответ предназначался обоим сразу. Голубые водянистые глаза его уставились в какую-то точку поверх репродукции картины Модильяни. Холеным лицом, тоненькими светлыми усиками походил он, как считал Фима, на надменного прусского дипломата, вынужденного против собственной воли служить в посольстве во Внешней Монголии. Эйтан позволил Варгафтику завершить еще один бородатый анекдот, а затем, словно дремлющая пантера, едва двигая губами, сказал тихо:
– По местам. Хватит трепаться.
Варгафтик мигом подчинился и покатился вслед за ним в процедурную. Дверь за ними захлопнулась. Острым запахом антисептических препаратов дохнуло в холл в кратком промежутке между открытием и закрытием двери.
Фима вымыл руки и приготовил кофе для пациентки, приходившей в себя в “комнате восстановления сил”. Затем он налил кофе Тамар и себе, облачился в короткий белый халат, уселся за стойкой регистратуры и начал изучать книгу записей, в которую он заносил пациенток. Про себя Фима называл эту книгу “родословная регистратуры”. Числа в книге он записывал словами, а не цифрами. Поступившие платежи, отсроченные платежи, порядок очереди на лабораторные исследования, результаты, пришедшие из лаборатории, переносы визитов к врачу. Кроме того, ему вменялось вести картотеку: истории болезни, копии рецептов, исследования в лаборатории ультразвука, рентгеновские снимки. Все это да еще ответы на телефонные звонки и составляло круг его обязанностей. Не считая приготовления кофе для врачей и медсестры, этим он занимался каждые два часа. А иногда – и кофе для пациентки после процедуры.
Напротив его стойки стояли небольшой кофейный столик и два кресла, на полу лежал ковер, на стенах висели репродукции Дега и Модильяни; здесь пациентки располагались в ожидании приема. Бывало, Фима добровольно вызывался скрасить это время, завязывая легкую беседу на нейтральную тему – о росте цен или телепередаче, что показывали вечером накануне. Впрочем, большинство пациенток предпочитали ждать в молчании, листая журналы, и тогда Фима погружался в свои бумаги, стараясь сделаться незаметным, чтобы не усугублять неловкость посетительницы. Что происходило там, за закрытыми дверями врачебных кабинетов? Что побудило женщину издать вздох, который Фима слышал или вообразил, что услышал? Что выражали лица женщин, когда они сюда приходили, и каково было выражение их лиц, когда они уходили? Какова она, история, завершающаяся в этой лечебнице? И ребенок, который не родится, кем бы он был? Какая судьба ему выпала бы? Все, что Фима пытался разгадать, расшифровать или сочинить, воображая и предполагая, вызывало в нем самом борьбу между неприятием, отвращением и чувством, что долг его – проявить сочувствие, хотя бы мысленно. Порою сама суть женственности представлялась ему вопиющей несправедливостью, чуть ли не жестокой болезнью, поразившей половину рода человеческого, обрекшей на унижения и терзания, которые обошли стороной другую половину. Но бывало и так, что возникала в нем и неясная ревнивая зависть, чувство какого-то упущения, словно обделен он неким таинственным даром, позволяющим им весьма просто присоединиться к тому миру, куда для него дорога закрыта навеки. И чем больше он размышлял об этом, тем меньше удавалось ему разобраться в себе, провести границу между жалостью и завистью. Матка, принятие семени, беременность, роды, материнство, кормление грудью, даже месячный цикл, даже потеря плода и выскабливание – все это пытался он нарисовать в своих мыслях, вновь и вновь прилагая усилия, чтобы прочувствовать в воображении то, что изначально не дано ему испытать, и случалось, что в разгар подобных размышлений указательный палец его ощупывал, чисто машинально, соски на груди, которые казались ему издевательством над слабым полом или, возможно, памятью о грехопадении. И в конце концов накатывалась на него волна глубокого сожаления по поводу всего, по поводу мужчин и женщин, будто осознал он, что разделение полов – это не более чем злая шутка. И пришло время подняться и начать действовать, с приязнью и разумом, дабы положить конец этой шутке. Или по крайней мере сократить, уменьшить страдания, вытекающие из этого разделения. Хотя его об этом не просили, но Фима вставал со своего места за стойкой регистратуры, наполнял стакан водой из холодильника и с робкой улыбкой подавал его женщине, ожидавшей своей очереди, бормоча при этом: “Все будет хорошо”. Или: “Попейте, почувствуете себя лучше”. В большинстве случаев он вызывал только легкое изумление, но иногда ему удавалось увидеть благодарную улыбку, заставлявшую его опускать голову, как бы говоря: “Хоть это немногое, что в моих силах…”
Когда выпадало свободное время, между телефонными звонками и ведением записей, Фима, бывало, читал по-английски роман. Или биографию государственного деятеля. Частенько, однако, читал он не книгу, а проглатывал две вечерние газеты, которые покупал по дороге в клинику, и был предельно внимателен, чтобы не пропустить даже маленькой заметки. Комментарии, сплетни, мошенничество в кооперативном магазине в городе Цфат, случай двоеженства в Ашкелоне, безответная любовь в Кфар-Саве – все его занимало. Изучив газету вдоль и поперек, он откладывал ее в сторону, сидел и вспоминал. Или собирал заседание кабинета, переодевал своих министров в одежды революционеров-партизан, выступал перед ними с речью, в которой были и предвидение, и гнев, и утешение, спасал сынов Израиля, хотели они того или нет, воцарял мир во всем мире.
В перерыве между процедурами врач и сестра выходили к нему выпить кофе и поболтать. Фима иногда, начисто терявший способность слушать, с удивлением спрашивал себя: “Что я здесь делаю? Что общего между мною и этими далекими мне по духу людьми?” Но не находил ответа на вопрос: где, если не здесь, он должен находиться? Хотя и чувствовал, со всей остротой, с болью, что есть такое место на свете, где его ждут и удивляются, куда он запропал. И тогда Фима принимался рыться в карманах, находил таблетку от несварения, вновь перелопачивал все газеты – не пропустил ли что-то важное.
Гад Эйтан – бывший зять Альфреда Варгафтика. Он был женат на единственной дочери Альфреда, которая сбежала десять лет назад в Мексику с поэтом, прибывшим в Иерусалим на книжную ярмарку, где она работала. Варгафтик, основатель клиники и старший партнер с преимущественными правами, относился к Гаду Эйтану со странным почитанием, одаряя бывшего зятя проявлениями покорности и самоуничижения, которые старался скрыть за взрывами вежливого гнева. Доктор Эйтан, специализировавшийся главным образом на проблемах бесплодия, а по необходимости – еще и врач-анестезиолог, был человеком холодноватым и к тому же молчальником. Имелась у него привычка подолгу и пристально разглядывать свои пальцы. Словно боялся, что потеряет их. И сам факт существования у него пальцев, похоже, не переставал изумлять его. И действительно, пальцы эти были точеные, длиннее обычного, музыкальные – просто исключительные пальцы. Вдобавок доктор Эйтан двигался, как сонное животное или, наоборот, как животное, только что пробудившееся ото сна. Иногда по его лицу растекалась тонкая, холодная улыбка, в которой его голубые водянистые глаза участия не принимали. И видно, именно эта холодность пробуждала в женщинах и веру, и удивление, и какое-то страстное желание вывести его из состояния равнодушия, растопить его ледяное сердце. Эйтан игнорировал любые намеки и попытки заигрывания, а на исповеди пациенток отвечал сухо: “Ладно. Да. Но выбора нет”. Или: “Что поделаешь. Это случилось”.
Нередко в середине анекдота Варгафтика Эйтан быстро разворачивался вокруг собственной оси на сто восемьдесят градусов, наподобие башни танка, и исчезал, двигаясь кошачьими шагами, за дверью своего кабинета. Казалось, что люди, мужчины и женщины, вызывают у него легкое отвращение. Прекрасно зная, что Тамар влюблена в него, ему доставляло удовольствие отпускать иногда едкие, короткие фразы:
– Что за аромат источаешь ты сегодня?
Или:
– Одерни-ка юбку. Не стоит тратить на нас свои коленки. Подобный пейзаж нам показывают по двадцать раз на дню.
А однажды попросил:
– Положи, пожалуйста, на стол вагину и шейку матки. Да. Знаменитости. Да. Результаты. А ты что подумала? Да. Именно ее. Твои мне не нужны.
Глаза Тамар – левый зеленый и правый карий – наполнились слезами. И Фима, как рыцарь, ринувшийся спасать принцессу от страшных челюстей дракона, вскочил и вместо Тамар принес требуемую историю болезни и шлепнул на стол перед доктором. А тот одарил его невидящим взглядом и вновь принялся изучать свои пальцы. В свете мощной лампы, используемой для клинических осмотров, его пальцы, похожие на женские, порозовели, словно испуская сияние, стали почти прозрачными. Доктор посчитал нужным направить и в сторону Фимы убийственный залп:
– Не знаете ли вы, случаем, что такое “менструация”? Тогда объявите госпоже Лихт, да, той, что сегодня была на приеме, да, по телефону, несомненно, что она нужна мне здесь ровно через два дня после следующей ее менструации. И если “менструация” не совсем благозвучно звучит по телефону, то скажите ей, пожалуйста: “Два дня после месячных”. Впрочем, мне безразлично, что вы ей скажете. По мне, можете сказать “через два дня после ее личного праздника”. Главное, назначьте ей время. Спасибо.
Варгафтик, как человек, увидевший пожар, поспешил выплеснуть на огонь содержимое ближайшего к нему ведра, не потрудившись проверить, вода в нем или бензин:
– Личный праздник… Мне это напомнило известный анекдот про Бегина и Арафата…
И он в сотый раз поведал, как проницательность Бегина победила злобность Арафата.
– Я бы повесил обоих, – протянул Гад Эйтан.
Тамар заметила:
– У Гада сегодня был тяжелый день.
А Фима, со своей стороны, добавил:
– Нынче вообще тяжелые времена. Все, что по нашей вине происходит на территориях, захваченных нами в Шестидневную войну, мы беспрерывно пытаемся вытеснить из нашего сознания, а в результате воздух потрескивает от гнева и агрессии и все нападают на всех.






