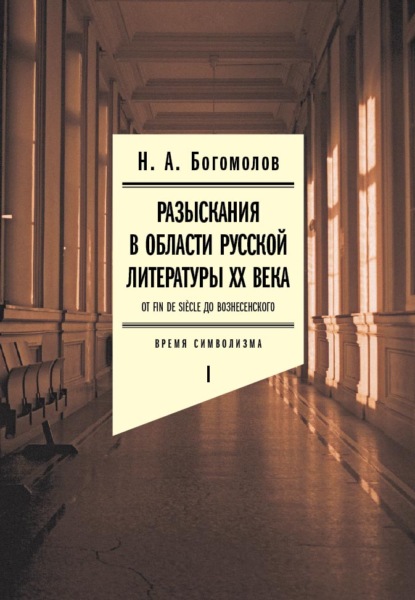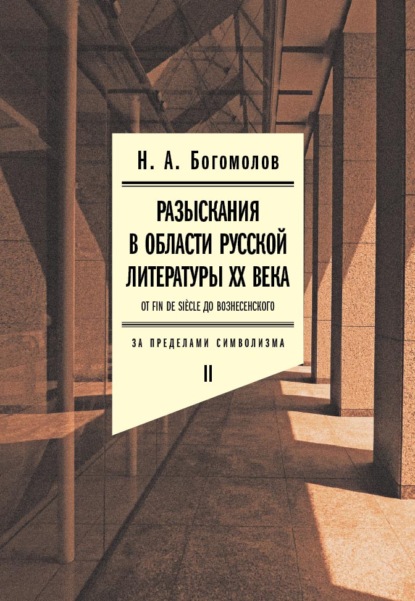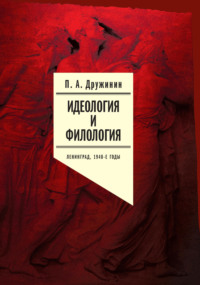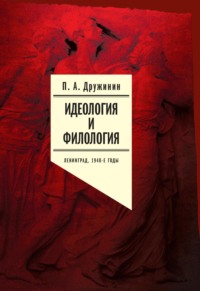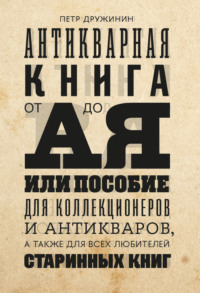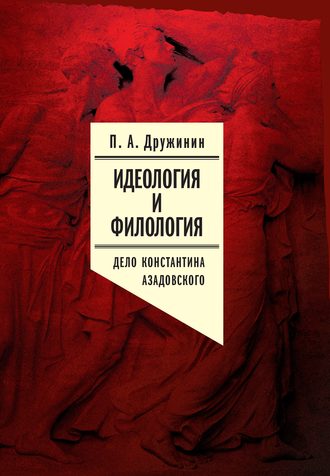
Полная версия
Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
На следствии Азадовский вел себя трусливо, отрицая очевидные факты, боясь ответственности. К уголовной ответственности Азадовский не привлекается. Однако поведение Азадовского, который хранил дома порнографическую и антисоветскую литературу, а также посещал притоны для употребления наркотиков и курил там гашиш, несовместимо с его будущей профессиональной деятельностью. Азадовский не может быть воспитателем молодежи, ведя сам аморальный образ жизни. Сообщая об изложенном, прошу обсудить поведение Азадовского и принять к нему меры общественного воздействия. О принятых мерах прошу сообщить в месячный строк.
Ректор с содроганием прочитал этот документ и в том же августе 1969 года сообщил в Следственное управление о том, что больше такого аспиранта в ЛГПИ имени Герцена не числится.
Нужно отдать должное ректору – Александру Дмитриевичу Боборыкину (1916–1988), который обошелся с Азадовским все же довольно гуманно. Правда, в защиту аспиранта подали свои голоса и профессор ЛГПИ Б.Ф. Егоров, и другие преподаватели пединститута, и даже директор Пушкинского Дома В.Г. Базанов, однако ректор мог не посчитаться с их мнением и отчислить Азадовского с такой характеристикой, с которой тот не смог бы устроиться не то что в вузе, но даже в сельской библиотеке. Однако ректор, в особенности ценивший Н.Я. Берковского, прислушался к мнению профессора и поступил максимально мягко, а впоследствии, спустя два года, когда дело утихло, даже санкционировал защиту Азадовского в ЛГПИ.
Нельзя умолчать о том, что подлинные материалы судебного процесса по делу Ефима Славинского полностью опровергают положения милицейского «документа», ибо свидетели на суде показали, что гражданин «Азадовский не употреблял наркотики, хотя ему многократно и настойчиво это предлагалось, поскольку относится к наркотикам отрицательно и вообще никогда не курил даже папирос». А «белый порошок», обнаруженный у него в ходе обыска, в действительности оказался всего лишь аспирином, но, будучи импортным, был изъят при обыске для проведения экспертизы.
Вообще обыск 1 июня 1964 года, начавшийся в 6:30 утра, проводился с размахом – оперативные группы работали одновременно по многим адресам, явившись почти ко всем знакомым Славинского. Впечатляет и количество изъятого – у Азадовского, например, вынесли практически весь письменный стол. Кроме записных книжек, переписки с иностранными гражданами, рецептов и лекарств, любых листочков с телефонами, списков членов переводческих семинаров и проч. были изъяты многочисленные иностранные журналы – от «Spiegel» и «New Yorker» до «Esquire» и «Playboy», все «долгоиграющие пластинки иностранного производства», а также изданные за границей собрания сочинений Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой и даже вырезки из «Русской мысли». Особый интерес привлекло напечатанное на пишущей машинке стихотворение, начинавшееся со слов «Когда в Неву входили крейсера…». Оно так и не вернулось к Константину, и никто не установил его автора; и даже непонятно, зачем его изъяли. Это было стихотворение его друга, молодого поэта и историка Якова Гордина.
Когда в Неву входили крейсераВ осеннем дыме, в утреннем ненастье,Я тут же понял, что пришла пораПодумать о бесславии и счастье.Пред ними подымалися мосты,Ни зверю нет пути, ни человеку,И понял я, что время пустотыТаким, как я, устроило проверку…Однако вернемся к присланному в институт документу. Для советской правоприменительной практики вполне показательно то обстоятельство, что милицейское «представление» было отправлено Следственным управлением задолго до суда над Е.М. Славинским, который состоится 24–29 сентября 1969 года. То есть еще до того, как суд рассмотрел это уголовное дело и дал оценку собранным следствием материалам, «вина» Азадовского считалась уже доказанной: понятие «презумпция невиновности» для отечественного права всегда было некой фантастической картинкой западного кинематографа.
Серьезное давление, которое оказывало на Азадовского следствие, не привело к ожидаемому результату – ни на следствии, ни на суде он не дал против Славинского никаких показаний. Но сама обстановка – обыски и допросы – оказала известное влияние на Азадовского, укрепила его личность, дала реальную возможность не только преодолеть это испытание нравственно, но и окончательно прозреть. Об этом свидетельствует запись в том же дневнике А.М. Жмаева:
– Поскольку я не виноват, – рассказывал Марк, – то и оправдаться невозможно. «Ваше имя фигурировало на суде» – этого достаточно. Ректор со мной хорош. Посмотрел мои оправдательные бумаги и говорит: «Я понимаю и верю, дорогой, но надо, чтобы все утихло». – «Что утихло?» – спрашиваю. «Да вот суд, наркотики, журналы». Жду, когда утихнет. Года через два, думаю, смогу вернуться в Питер. А знакомые на улицах встречают, большие глаза делают: «Как, разве вас не посадили?»
– Тебе вернули то, что отобрали?
– Ничего. Ну, не просить же у них!.. Ты пойми, всё ясно только с уголовниками: украл – садись, не украл – гуляй, работай. А с интеллигенцией – худо. ОНИ понимают, что зло – здесь. – Марк показал на свой высокий, красивый лоб. – Им плевать, чего ты там в своих статьях пишешь. Они знают: вот ЗДЕСЬ – не то содержание. И задача у них – одна: перековка сознания. Они будут тягать, держать в предвариловках, устраивать очные ставки, делать с тобой что угодно с единственной целью: ты должен думать иначе. Убить личность. Убить мозг. Сделать мозги эластичными и послушными, чтобы человек сам ненавидел крамолу, чтобы при виде, скажем, «самиздата» он не просто шарахался, а автоматически срабатывал, стуча на ближнего. Растоптать достоинство. Доказать, что ты – не интеллигент, а такое же дерьмо, как все. Вышибить само понятие о личностном начале. Вот когда ты почувствуешь в них своих людей, когда придешь к ним САМ, они и обласкают, и помогут, и в институт воткнут, пусть хоть у тебя в характеристике написано, что ты маленьких детей резал… Они меня по 20 часов на стуле держали. Но я себе твердил: у тебя есть достоинство. Есть! Ты выйдешь, будешь с людьми, тебе не должно быть стыдно им потом в глаза глядеть… Знаешь, что Берковский сказал? «Когда – говорит – пройдет время, это будет единственным романтическим эпизодом вашей биографии».
То обстоятельство, что слова эти были тогда зафиксированы, а в 1972 году увидели свет в самиздатской книге Жмаева под названием «Туда и обратно: Ретроспективный дневник» (печатное издание – СПб., 1995), могло по тем временам сыграть свою роль: если бы хоть один экземпляр машинописи попал на Литейный, там без особых усилий выяснили бы подлинное имя «Марка». То есть эта эмоциональная речь могла бы оказаться документом – фактическим свидетельством его тогдашних настроений. Попал ли? Этого мы не знаем.
Читая слова Азадовского 1969 года, можно почувствовать окончательно созревшее в нем к тому времени презрение к официальной доктрине, яростное неприятие навязываемой действительности, ясное понимание роли карательных органов. Впрочем, эти чувства и мысли были присущи в ту пору не ему одному. Они характеризуют скорее все поколение молодой интеллигенции 1960-х годов.
Когда-то Эрнст Неизвестный, говоря о Бродском и его поколении ленинградцев, отметил особенно этот резкий, «злой» стиль отношения к действительности у загнанной в угол талантливой молодежи:
…Эти маленькие интеллектуальные растиньяки, под серым петербургским небом, набрались растиньяковской желчи и жестокости. По отношению к жизни. И эта жестокость не была жестокостью плебеев, нет. Их петербургская жестокость была почти ницшеанская, жестокость аристократов.
Итак, Константин Азадовский – спасибо ректору – был отчислен с лаконичной формулировкой в трудовой книжке «в связи с окончанием очной аспирантуры», не препятствующей ни трудоустройству, ни будущей защите диссертации. Другой вопрос, что о преподавании в ЛГПИ, как и в любом другом ленинградском вузе, после нашумевшего «дела Славинского» было невозможно даже подумать. Пришлось искать новое место работы, притом на периферии.
Излюбленным убежищем для изгнанников из Ленинграда издавна считался Петрозаводск: ночной поезд отделял Ленинград от столицы Карелии, где для таких, как Константин Азадовский, находились, как правило, вакантные ставки – добровольно мало кто туда ехал, а своих кадров недоставало. Ну а с тем набором иностранных языков, который имелся у Азадовского, можно было даже выбирать. И он выбирает преподавание английского языка на кафедре иностранных языков Карельского пединститута. Поначалу ему приходилось несладко. Ассистентская должность предполагала серьезную учебную нагрузку (до 30 часов в неделю), так что выкроить время для того, чтобы навестить мать, оставшуюся в Ленинграде, практически не удавалось.
Отдадим еще раз дань благодарности ректору ЛГПИ А.Д. Боборыкину, который пошел навстречу ученику Н.Я. Берковского и дал добро на защиту кандидатской диссертации. Весной 1971 года Азадовский смог наконец напечатать автореферат работы, завершенной еще в 1969 году: «Франц Грильпарцер – национальный драматург Австрии (истоки и философско-эстетическая проблематика творчества)». И вот в июне 1971 года состоялась долгожданная защита. Первым оппонентом на защите был Е.Г. Эткинд, в то время профессор Герценовского института; вторым – кандидат филологических наук (в будущем доктор искусствоведения) Б.А. Смирнов, заведующий кафедрой в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Через два месяца ВАК утвердил защиту.
Получив диплом кандидата наук, Азадовский остается в Петрозаводске еще на три года; в 1974 году он получает звание доцента. Однако жизнь на два города, почтенный возраст матери и ее болезнь побуждают его искать работу уже в Ленинграде. Как часто бывает, новое место появилось случайно: в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной объявили конкурс на замещение должности завкафедрой иностранных языков, и вот благодаря положительной характеристике из пединститута и посредничеству преподавателя ЛВХПУ Зои Борисовны Томашевской, дочери известного пушкиниста и давнего друга семьи Азадовских, он был избран по конкурсу. Кроме знания собственно иностранных языков, серьезным козырем Азадовского было в данной ситуации наличие искусствоведческого диплома.
Итак, осенью 1975 года Азадовский становится заведующим кафедрой иностранных языков Мухинского училища. Начинается плодотворное пятилетие его научной и педагогической деятельности, которое знаменуется серией научных и литературных работ. Это прежде всего публикации в области русско-немецких литературных связей, связанные с именами Стефана Цвейга, Томаса Манна и, конечно, Райнера Марии Рильке. Именно творчество последнего становится в тот период главной темой Азадовского-ученого; он печатает переводы писем Рильке на русский язык, исследует связи Рильке с деятелями русской культуры – от Льва Толстого до Александра Бенуа, ведет поиск в отечественных и зарубежных архивах. Результатом переписки с западными архивистами стало подлинное открытие Азадовского: письма Марины Цветаевой к Рильке 1926 года, которые, соединившись с ответными письмами Рильке и перепиской Цветаева – Борис Пастернак, образовали знаменитый «треугольник», ныне переведенный почти на все европейские языки и признанный выдающимся культурным событием ХХ века.
Не менее внушителен и другой пласт его научных интересов – история русской поэзии начала ХХ века (так называемый Серебряный век), прежде всего наследие русского символизма. Именно в эти годы создаются капитальные труды, посвященные Александру Блоку, Валерию Брюсову, Николаю Клюеву…
Явственно формируется в этот период и научный метод Азадовского. Основу его работ составляют, как правило, неизвестные архивные документы либо тексты, ранее не переводившиеся на русский язык, в сочетании с их осмыслением и содержательным комментарием. Это обстоятельство открывает для него страницы не только чисто филологических журналов, но и таких авторитетных академических изданий как «Литературное наследство» и «Памятники культуры. Новые открытия».
Вместе с тем именно в эти пять лет создается база для будущей докторской диссертации: намечается ее план, готовятся к публикации отдельные фрагменты. В научных планах Мухинского училища диссертация Азадовского была обозначена как работа о восприятии русской литературы на Западе на рубеже XIX–XX веков, тогда как на самом деле он пытался разобраться в вопросе, что такое феномен загадочной «русской души» с точки зрения западноевропейского человека. Как и где возникло само понятие, как оно распространилось в художественной литературе, почему оказалось настолько устойчивым и знаковым как на Западе, так и в России.
Наряду с занятиями «русской душой» Азадовский по-прежнему преподавал, хотя, конечно, уже не так много, как в Петрозаводске, поскольку часть своего времени он должен был – в своем новом качестве заведующего кафедрой – уделять административным обязанностям, которые традиционно (и не только в нашей стране) обрастают бесчисленными планами, отчетами и другими довольно бессмысленными бумагами.
Это были для Азадовского годы спокойной и плодотворной работы, подкрепленной относительным материальным благополучием. Заведующий кафедрой в вузе, подчиненном Министерству высшего и среднего образования РСФСР, имел оклад 384 рубля в месяц, что по тем временам было немало. Учитывая, что средняя зарплата в СССР в 1980 году официально составляла по стране 170 рублей, такой оклад был вдвое больше, а если сравнить с рядовыми преподавателями вузов или научными сотрудниками Публичной библиотеки, то втрое или вчетверо. Дополнительно он получал гонорары за переводы и публикации, в том числе и появлявшиеся за рубежом по линии Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП) – обязательного посредника между советским автором и любым иностранным издательством при соблюдении официальных правил.
То обстоятельство, что в 1980 году ленинградский филолог Константин Азадовский (не партиец, не военный, не завмаг) приобрел автомобиль и разъезжал по Невскому на новеньких «Жигулях», демонстрировало его независимость, причем не только финансовую. То, что он при этом умудрился не стать членом партии, просто-таки удивительно, хотя руководители вуза и предлагали ему «определиться». Но если кому-то для продвижения по службе нужно было вступать в стройные ряды КПСС, то Константин вполне довольствовался достигнутым положением. Преподавание, переводы, гонорары давали ему достаточные средства для безбедной жизни в стране победившего социализма, а к иным «благам» он особенно и не стремился.
Однако, имея за плечами и собственный опыт и, помня историю своей семьи, он отдавал себе отчет в том, что и относительная свобода научной деятельности, и материальное благополучие – не повод забывать о стране, в которой довелось родиться. Он знал, что, достигнув определенного положения в советском обществе, необходимо соблюдать если не правила этого общества, то по крайней мере известную осмотрительность, благодаря которому сохраняется status quo. Обыск 1969 года и «дело Славинского» многому научили его – во всяком случае, он старался быть осторожен в том, что касалось «антисоветской» литературы.
Имел ли он отношение к диссидентскому движению 1970-х годов, столь отчетливо набиравшему силу в Москве? Громкие процессы над «инакомыслящими», нараставшее движение за право выезда в Израиль, «Хельсинкская группа», «Хроника текущих событий» – все это концентрировалось преимущественно в Москве. А в городе на Неве диссидентство лишь слабо теплилось – местные органы безопасности давили его в зародыше. (Еще со времен «Ленинградского дела» вошла в употребление поговорка, хорошо объясняющая суть работы ленинградских органов: «Когда в Москве стригут ногти – в Ленинграде отрубают пальцы».) То есть ленинградский извод инакомыслия был по московским меркам совершенно безобидным и выражался преимущественно в стихах и подпольных (со временем – полуофициальных) выставках ленинградских художников.
Безобидный интерес Азадовского к поэзии и живописи вряд ли мог привлечь к нему внимание органов. Другое дело – так называемые «контакты», иначе – общение с приезжающими в СССР славистами и германистами; большинство их неизменно находилось «под колпаком», а Ленинградский главк КГБ как раз специализировался на приезжих иностранцах. Они-то, видимо, и были причиной разыгравшихся вскоре событий. Не последнюю роль играли знакомые и друзья, уезжающие в Израиль или Европу, – тут он, конечно, не мог переступить через себя и почти всегда отправлялся в Пулково, чтобы проводить их и проститься.
В целом же инакомыслие как жизненное credo было близко Константину. Разумеется, он был «инакомыслящим» уже со студенческих лет. Но что он совершенно не приветствовал и не примерял к себе, так это диссидентского образа жизни и диссидентской деятельности, как и пьянства или других вольностей, которые отвлекают от главного. А самым важным в своей жизни он считал литературную и научную работу. Это было, как ему казалось, его истинным призванием и по-настоящему мужским делом. Здесь он четко формулировал для себя задачи и цели, не жалел времени и средств для поездок в Москву и, не щадя зрения, часами сидел в архивах и библиотеках…
Когда Д.Я. Северюхин составлял «опыт литературной энциклопедии» ленинградского самиздата послевоенной эпохи, то он отдельно указал на непринадлежность Азадовского именно к самиздату как к области распространения своих работ (переводы Рильке, ходившие в машинописи в 1960-е годы, остались в прошлом): «Отмечу, что многие весьма известные авторы, принадлежавшие к этой неофициальной культурной среде (например, Ефим Эткинд, Константин Азадовский или Геннадий Шмаков), насколько нам известно, не распространяли своих произведений в самиздате и потому в энциклопедию не включены». То есть и публикаторская, и литературная деятельность Азадовского протекала в подчеркнуто законном русле.
Он шел твердой поступью, видя знакомые с детства примеры – собственного отца, В.М. Жирмунского, Ю.Г. Оксмана… Всех тех, для кого главным делом жизни стала наука о литературе. В то же время, однако, сформировавшись как личность в эпоху оттепели, он не имел свойственного старшему поколению страха, не сближался с теми, кто ему не нравился, не был согбенно-дипломатичен, даже напротив – слегка заносчив и честолюбив.
Глава 2
Блицкриг
Светлана
Они познакомились в 1975 году. Произошло это довольно банально, поскольку они просто жили в одном доме на улице Желябова. Светлана в то время была вдовой – в 1973 году она потеряла мужа. Отношения развивались неспешно, однако в 1978 году, когда Азадовские переехали на улицу Восстания, Константин Азадовский и Светлана Лепилина, хотя и не были зарегистрированы, воспринимались многими как семейная пара. «Поначалу, – свидетельствует Виктор Топоров, – к их неожиданно подзатянувшемуся союзу отнеслись с юмором, потом с ужасом (особенно сокрушались потенциальные невесты и их обремененные степенями и заслугами родители – Костя был завидным, вечно ускользающим женихом), потом свыклись…»
Не нужно долго гадать, чем Светлана привлекла Константина, который и без того не был обделен женским вниманием. Эта молодая женщина разительно выделялась на фоне «филологических» и «околопоэтических» ленинградских барышень. Она совершенно не стремилась что-то из себя изображать и «казаться»… Ее неподдельная искренность и доброта, отсутствие какой бы то ни было манерности или наигранности, столь свойственной девушкам в компаниях интеллигентской молодежи, и совершенно не питерская эмоциональность не могли оставить равнодушным никого из окружающих. К тому же она была еще и красавицей с соломенной копной волос.
Осень 1980 года выдалась для него неспокойной: то разлад со Светланой, то неприятности на работе. Подходил к концу пятилетний срок заведования кафедрой; перевыборы должны были состояться в начале осени, но их неожиданно перенесли на декабрь. Безусловно, ни у Константина, ни у сотрудников кафедры не было сомнений в благополучном исходе дела, но сама неопределенность не давала покоя.
К тому же последние месяцы Азадовский постоянно боролся с собственными страхами: в нем нарастало ощущение, будто кто-то за ним наблюдает. Впрочем, год Олимпиады-80 вполне мог преподносить такие сюрпризы. Тем более что и Константин, и Светлана свободно общались с иностранцами, и как раз в тот самый олимпийский год они не раз могли убедиться, что местные сотрудники КГБ держат их под контролем. Масла в огонь подлил один из друзей, которого осенью вызывали в Большой дом для «профилактической беседы»; ему, в частности, задавали вопросы относительно Азадовского. Не в силах заглушить тревогу, Азадовский проверил квартиру на предмет сам- и тамиздата; он не исключал, что к нему могут нагрянуть с обыском. Чувство перманентной тревоги, притупившись, становилось привычным состоянием.
Вечером 18 декабря 1980 года Константин, сидя дома, ждал Светлану. Он не знал, что у нее после работы была назначена встреча с каким-то иностранцем. Поразительная способность Светланы, человека на редкость отзывчивого и доверчивого, заводить неожиданные знакомства раздражала Константина. Слова Светланы «К нам завтра придут гости, они тебе очень понравятся» не были редкостью.
На сей раз помощь потребовалась испанскому студенту, прибывшему в Ленинград на один семестр и боровшемуся то с простудой, то с суровой ленинградской действительностью. Подробности этой ситуации описывают друзья Азадовских, театральные режиссеры Генриетта Яновская и Кама Гинкас:
Костя с ней не был зарегистрирован, но они встречались уже несколько лет. Она человек очень открытый, со всеми легко знакомилась, помню, как-то у нее гуляли даже суперпопулярные тогда «Поющие гитары». Точно так же случайно она познакомилась где-то с испанским студентом-математиком, который в первый раз попал в Россию, ничего не понимал, был в полной растерянности. Она сразу кинулась ему помогать. Потом он заболел, она возила ему лекарства. И вот очень благодарный испанец уже должен был уезжать. Света встретилась с ним попрощаться. Они даже посидели в каком-то кафе. Сначала он попросил у нее поменять ему доллары на рубли: ему, мол, надо в Москву, а у него нет других денег. Она сказала, что у нее нет с собой денег, предложила зайти к ним домой. Костя жил тогда недалеко у Московского вокзала. «Нет-нет, не надо, я что-нибудь придумаю». Потом он немного проводил ее до дома, все порывался подарить джинсы, просил помочь. Он привез для каких-то людей лекарства, но они с ним так и не встретились, и он попросил ее передать эти лекарства. Они попрощались.
В тот вечер у нее болела голова, и она в последний момент передумала заходить к Азадовскому (о чем они утром договаривались по телефону) и решила, пройдя через их проходной двор, вернуться к себе на Желябова.
«Гражданка, остановитесь!» Кто-то в форме подхватил ее под локоть, другой преградил дорогу, еще двое в штатском – мужчина и женщина – встали рядом. Вообще к ней на улице частенько цеплялись, пытались познакомиться, но тут явно было что-то другое: к ней обратился не обычный прохожий, а милиционер… Да и такое обилие суровых лиц в темном, хотя и знакомом дворе не могло ее не обеспокоить.
А голос… Голос, попросивший предъявить документы. – Как удивительно слилось в нем все мерзостное, что лежало на дне ее не столь уж долгой жизни! Сколько раз она слышала это бесцветное «гражданка», «гражданочка», и это всегда вызывало у нее содрогание.
И сейчас, остановленная в сумраке проходного двора незнакомыми людьми, она вздрогнула и заволновалась. Думая о том, что привычка носить с собой паспорт оказалась как нельзя кстати, она пыталась сохранять видимое спокойствие. Спокойствие, однако, не сохранялось: она подозревала, что сейчас обнаружатся прощальные подарки друга-испанца – импортные джинсы и две пачки сигарет. Ей заранее было известно продолжение – вопросы «откуда» и «зачем»… Тем более что борьба со спекуляцией и фарцовкой развернулась в том году особенно сильно. От волнения сумочка выпала из рук, ее содержимое вывалилось на заснеженный двор…
Вероятно, это было уже последней каплей, поскольку и явное волнение Светланы, и громкие вопросы «Какое вы имеете право?» усугубили раздражение милиционеров. Подняв с асфальта перчатки и остальные вещи, выпавшие из сумочки, ее уже принудительно сопроводили в ближайший «опорный пункт». Пришлось повиноваться.
В опорном пункте охраны порядка, где обычно скучают дружинники или пьет чай участковый в часы приема населения, все было готово к появлению делегации из пяти человек. Милиционеры с фамилиями Арцибушев и Матняк и двое в штатском, оказавшиеся дружинниками, стояли у стола, на который грудой были вывалены вещи задержанной. К счастью, джинсы и сигареты не вызывали вопросов. Но тут она увидела, что милиционер Матняк крутит в руках маленький пакетик из фольги. Именно вокруг этого пакетика, который тут же развернули, и строился дальнейший разговор.
«Даже без экспертизы можно сказать, что это не лекарство», – сказал Матняк. Тональность разговора резко переменилась.