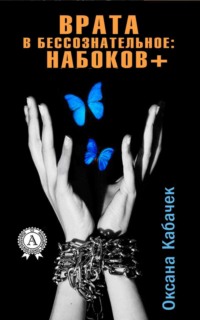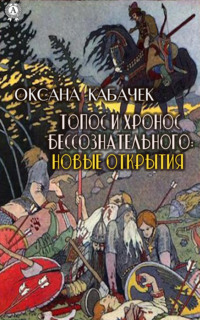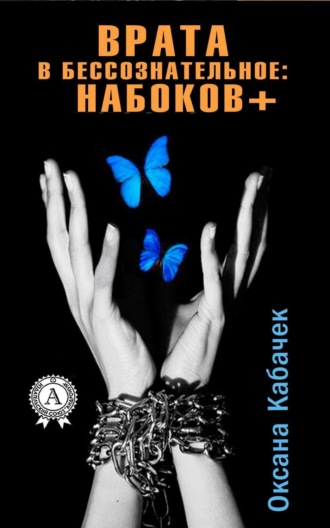
Полная версия
Врата в бессознательное: Набоков плюс

Оксана Кабачек
Врата в бессознательное: Набоков плюс
Вместо введения. Врата в бессознательное: метод послойного анализа литературного произведения
Для обложки книги первоначально был выбран сезанновский «Кухонный стол», а не что-то более наукообразное, приличествующее теме – описанию нового междисциплинарного (и от того скользкого) метода и применения его к творчеству В. В. Набокова; но ведь мы будем разбирать творческую кухню – затекст (то, что скрыто от взглядов слушателей-читателей, но что не менее важно, чем фасад, прихожая и гостиная).
Вглубь строки – рискованное путешествие.
Путешествие вглубь строки Набокова рискованно вдвойне.
Но до новатора-классика Владимира Владимировича мы доберемся не скоро: сначала пройдемся по полям фольклора и классической русской литературы, заглянем в разные уголки интернета – апробируем новый метод. А синие бабочки с новой обложки, предвозвестники чуда Набокова, будут нашими ангелами-водителями.
* * *Мы только с голоса поймем,что там царапало, боролосьО. МандельштамПроблема реконструкции ценностной позиции автора литературно-художественного произведения (на материале поэзии) привела нас в 2010 году к открытию послойного метода анализа литературных произведений. Воздействие поэзии во многом определяется эмоционально-ценностным посылом автора, выступающего под маской лирического героя. Слушатель погружен в особую художественную реальность; иногда даже незнание им значений отдельных слов не может разрушить магию стиха.
Почему это происходит? Какую информацию, кроме ритмической и мелодической [165], извлекают слушатели из звуков текста на непонятном или полупонятном им языке (как это часто бывает в детстве)? Как фонетика связана с семантикой, исчерпывается ли фонетический анализ текста примерами звукоподражания и анаграмм?
Было у нас смутное ощущение, что это не так – что фонетическая «оболочка» текста имеет какой-то серьезный смысл, скрытый от исследователей. Проверили догадку, проанализировав звукопись сначала одного стихотворения, а когда опыт оказался удачным, то и других.
Так мы оказались втянуты в авантюру.
Уже в самом начале исследования стало ясно, что последовательность звуков выражает развертывание тех или иных состояний и действий, совершаемых как очевидными, так и невидимыми в самом тексте – дополнительными персонажами стихотворения (людьми, животными, механизмами, силами природы и пр.)
Как скрытое сделать явным?
Семантика текста сильно затрудняет, закрывая собой, воссоздание картины, встающей за звуковыми характеристиками, – реальности, названной нами затекстом. (Это понятие в другом, но близком значении рассматривается психолингвистикой и теорией перевода). Анализ партитуры предполагает непростую процедуру, противоположную описанию звукового портрета персонажа. Требуется установить, кто (что) и почему издает эти звуки, в каких отношениях находятся эти персонажи (предметы, силы), чем они заняты; наконец, угадать фабулу, связывающую все эти элементы (наличие даже одного неопознанного или «неподходящего» элемента не позволяет считать работу по расшифровке затекста законченной.).
Для опознания источника звука на помощь приходят особые маркеры – так называемые сенсорные эталоны, принятые в той или иной культуре: «ку-ка-ре-ку» (условный крик петуха), «кап-кап» (звуки капели) и т. п. Но в реальности та же упавшая капля воды может иметь многообразное звучание: «фляк», «тинь» и пр. Как же догадаться, что «фляк» тоже означает каплю?
Однажды писатель В. В. Набоков запомнил индейское название американского форта «Тикондерога» и использовал его – в качестве индивидуального, а не общественно признанного сенсорного эталона! – в романе «Пнин» [96;108] для описания звучания работающей точилки для карандашей: «тикондерога-тикондерога». (Такие закольцованные звуки часто передают круговые вращения древних механических устройств, приводимых в движение людьми, животными, водой или ветром в архаических текстах типа молитв и псалмов.)
Противоположный пример: цокающие звуки могут означать не только цокот копыт, но и стук подковок каблуков и металлического наконечника костыля; а, например, лай – не только разговор собак, но и отдаленный голос пулемета времен Первой мировой войны. И во всем это надо разобраться, проиграв разные версии. Уметь различать голоса разных птиц, свист стрелы от свиста пули или пения птицы…
Трудно, но интересно и реально.
Почему в отличие от текста – давнего объекта изучения филологии и ряда других наук, затекст как сложная система, состоящая из анаграмматического, «фабульного» и «архетипического» слоев литературно-художественного произведения, не изучен? Причина проста: он ныне не осознается ни автором, ни читателями, а контроль затекста по смутному чувству (результат ориентировки в этих глубинных и неосознаваемых слоях произведения[1]) иногда еще и ослаблен: у авторов-графоманов, у авторов, пренебрегающих художественной формой ради идейного содержания, и у читателей с неразвитым вкусом.
Содержание внутренней работы автора скрыто от слушателя-читателя и критика (литературоведа); со стороны кажется, что поэт не властен в своем даровании и слишком безвольно предается «звуковому мышлению, подчиняясь той инерции звуков, которая ‹…› сильней его самого» [152;125].
Утерянная нами способность воспринимать анаграммы существовала на стадии первобытного мышления при создании и восприятии сакральных текстов[2] [9]; по-видимому, аналогичная судьба (постепенное забвение) постигла и другие слои затекста. В ходе культурогенеза семантика поэтического (сакрального) высказывания все больше и больше расходилась с фонетикой: если семантика продолжала быть в поле осознания авторов и слушателей, то фонетика навсегда ушла на его периферию.
Так человечество напрочь забыло про исходные «картинки» – архаический источник текста. Но они жили и подспудно влияли на восприятие произведения!
Насколько же реально, хотя бы в исследовательских целях, заново осознать эту важную подводную часть айсберга? Звуковые характеристики большинства явлений природы и культуры богаты, иногда противоречивы, динамичны, ускользающи. Вот если бы вся эта полифония была упрощена до сенсорных эталонов – знаков, удобной и однозначной формулы, маркирующей персонажей и предметы однозначными, предельно простыми сигналами, подобными условным «кря-кря» и «ту-ту» родного языка. (Эти формулы, знакомые с раннего детства, часто похожи, но не совпадающи в разных языках: английские собаки произносят «bow wow», «arf», «woof», «gowf», но лягушки уже «ribbit-ribbit»).
С такой упрощенной «категориальной сеткой» анализ фонограммы стал бы возможен. Но на свете существуют от рождения слабослышащие люди; в этом качестве, отложив на время приобретение слухового аппарата последнего поколения, воссоздающего объемную, сложную звуковую картину мира, мы и приступили к анализу затекста.
Первоначально (при анализе самого первого произведения) все три слоя затекста выступали почти слитно, едва просвечивая сквозь текст. (Сохранился протокол анализа, который помог в дальнейшем реконструировать этот первый, очень важный, этап вхождения в затекст.) Со временем ориентировка в затексте исследователя совершенствовалась и трансформировалась: слои не только успешно отделились от текста и друг от друга, но и внутри самого глубокого, «архетипического», слоя стали явственно различаться ближний и дальний планы, т. е. возникло как бы два новых слоя. Можно предположить, что этапы развития ориентировки исследователя в слоях затекста есть более-менее адекватная модель неосознаваемой ориентировки в них читателей-слушателей.
Не исключено, что в дальнейшем будут открыты и дополнительные образования, ответственные за сферу неосознаваемого восприятия речевых сигналов, – будет выстраиваться дальше новая топология бессознательного.
Пока же предложенный новый подход к исследованию литературно-художественной коммуникации, опирающийся на послойный анализ произведения и представление о мультипозиционности литературно-художественной деятельности, позволил описать психологические закономерности процесса литературно-художественного творчества и восприятия, взаимодействие осознаваемых и неосознаваемых мотивов, ценностей, смыслов и образов при порождении и перцепции произведения; уточнить идею, а иногда и жанр текста, а также опознать исходный вариант фольклорного произведения, отбросив дальнейшие наслоения.
Всего на сегодняшний день проведено 2 этапа исследования текста и затекста как литературно-художественных, так и иных произведений: 1) в 2010–2011 гг. проанализировано 46 стихотворений – законченных, целостных и фрагментов (отрывков) – в основном классических произведений философской и гражданской лирики XIX и XX вв. Благодаря их анализу были сформулированы предварительные представления о структурах бессознательного, ответственных за восприятие словесного искусства; 2) в марте-июле 2014 гг. было проанализировано 500 целостных произведений, как поэзии, так и прозы разных жанров, включая фольклор (всего 29 жанров; количество произведений в каждом жанре – от 10 до 50, их точное число указано в таблицах). В основном на этом этапе (помимо текста) анализировался только один из слоев затекста – так называемый «архетипический». Результаты анализа позволили выдвинуть гипотезу о структуре, функциях и происхождении одной из «матриц» бессознательного.
Часть 1. Начальные представления: затекст как вотчина лирического Героя (1 этап исследования)
…Действуют ведь на душу не слова, а подсловья.
А. М. Ремизов. ИзвереньРазберемся сначала последовательно со всеми слоями затекста: попробуем уточнить их назначение и специфику, опираясь на примеры.
Анаграмматический слой затекста
…Семантика ‹…› во власти фонетики.
К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэтФилологи признают, что проблема связанности текста на разных его уровнях, в том числе фонетическом, является актуальной, ибо «анаграмме свойственно актуализировать смысл, не только лежащий внутри слова, «по ту сторону» буквального значения, но и рождающийся на стыке лексических единиц, способных откликаться друг на друга, вступать в «диалогические» отношения» [72;103].
Анаграммой обычно считается перестановка букв (звуков), посредством которой из одного слова составляется другое. В нашем анализе затекста мы рассматриваем лишь наиболее простой случай анаграммы, а именно: 1) слова-осколки, образовавшиеся из первого, базового, слова в том же порядке (т. е. как его слышат адресаты), иногда в двух вариантах произношения: «акающем» и «окающем» (пример: «словами» («славами») – «слава», «лов», «лава», «вами»); 2) новое слово-кластер, образованное двумя соседними словами («не вымести» («ни вымисти»): «нивы», «вы», «мести»).
Выявляя анаграммы, можно проследить сам «механизм развертывания художественного высказывания, соответственно, смыслопорождения» [72;98]. Стихотворение В. Маяковского «Солдаты Дзержинского», из которого нами взяты вышеуказанные примеры, содержит, среди прочих, анаграмматические слова, выражающие семантику как текста, так и более глубокого, «фабульного», слоя затекста: «пли», «мести», «слава», «лов», «жил», «знай», «ход», «ад», «иди», «низ», «ор», «мат», «стаи», «таим», «таит», «шей!», «дик», «ран».
Современная психология раньше литературоведения начинает не просто понимать, что это именно она, «самая тонкая ткань – фоника» [72;99], «посылает нам зашифрованные «месседжи», зовы, послания», с помощью которых и подбирается «ключ к своему подсознанию» [138;408], но и изучать эти самые ключи с помощью особого метода.
Как и в древности, анаграмма позволяет намекнуть читателю (слушателю) о том, что в обществе положено скрывать: так, она способна «по-новому трактовать образы персонажей, указывая на их карнавальных двойников. ‹…› С помощью незаметных анаграмм «поэт трагической забавы» создавал особый криптографический «маскарад» исторических, политических фигур современности, о которых не имел возможности говорить открыто: и народных героев – лидеров Белого движения, и новых зловещих хозяев жизни, чьи криптонимы заслуживали лишь одиозных контекстов» [153;163,164].
Власть в русском Средневековье наделялась чертами святости и истины [83;387]; посредником «между народом и богоподобным монархом выступал поэт, подобный панегиристу античности, гимнами славившему богов и взывавшему к ним от имени этноса и полиса. С постепенной десакрализацией фигуры монарха на рубеже XVII–XIX веков поэт наследует божественность последнего, превращаясь из медиатора в демиурга» [52;6]. И новый демиург (поэт) в эпоху, когда «история стала безвременьем ‹…› Империя и Свобода разошлись» [52;9], пользуется своим правом судить Власть.
Примеры утаенного отношения к политическим событиям и лицам, обнаруживаемого в анаграмматическом, а также «фабульном» слоях произведения, были широко представлены в нашей первой выборке (46 стихотворений). Часто это «тираноборство» под видом панегирика (Н. А. Некрасов «Тишина», отрывок, О. Э. Мандельштам «Если бы меня…», финал, Б. Л. Пастернак «Я понял: всё живо», А. А. Ахматова «21 декабря 1949 г.» и др.)
1) А. Ахматова в «панегирическом», на первый взгляд, стихотворении «И Вождь орлиными очами…» использует – осознанно или нет – убийственный анаграмматический прием. Очевидное «вождь – вошь» московского произношения маскировалась произношением питерским «вождь – вощ».
А. Галич писал о ней, в муках рождающей другое «сталинистское» выморочное стихотворение, «21декабря 1949 г.»: «русская речь / Сегодня глумится над ней» («Без названия»). Но, может быть, как раз речь помогала, а не глумилась (помогала глумиться)? Галич, автор стихотворения про белую вошь – «Королева материка», похоже, не заметил здесь сатирической подмены Вождя мерзким насекомым.
Но в этом образе есть и более глубокий смысл. «Это человек-то вошь!», – восклицает Соня Мармеладова. По Раскольникову, «твари дрожащей = вши» противостоят великие тираны. У Ахматовой истинной вошью оказывается не «маленький человек», а тот, кто должен был встать в ряд «имеющих право» магометов и наполеонов.
2) Анаграмма стихотворения Н. А. Некрасова «Газетная» содержит очень серьезное обвинение – слова «Иуда, сдал». Это о провокаторе В. Костомарове, выдавшего революционера М. Л. Михайлова (1861 г.) и, позже, Н. Г. Чернышевского, прокламация которого «К барским крестьянам…» призывала готовиться к восстанию за землю и волю [82;180]. Но текст-то «Газетной» посвящен не выпуску прокламации Чернышевским, а другому событию: знаменитым пожарам 1862 года, которые, как считалось в советское время, «правительство использовало в провокационных целях для борьбы с революционным движением» [82;183]. Вряд ли одновременный поджог в разных городах империи был делом рук революционеров. Или…?
3) Текст рабочей (точнее, право-эсеровской) песни времен Гражданской войны поручика Н. Арнольда «Сброшены цепи кровавого гнета» вполне соответствует затексту, однако промежуточный, анаграмматический, слой образует своего рода метатекст – историю незадачливого пролетария (очень похожего на Шарикова), пробившегося при рабочей власти наверх, но не нашедшего там ни личного, ни социального счастья. Второй булгаковский мотив этой анаграммы – «бал-ад». Идеи носятся в воздухе? Или М. Булгаков мог слышать эту песню и… уловить анаграмму?
4) Иногда в анаграмме и «фабульном» слое затекста поэт прячет свои лучшие чувства. Так, в тексте стихотворения «Готовность» (1921 г.) (посвященного греховности пред- и послереволюционной России) М. Волошин, вполне в духе современников, предлагает «до алмазного закала / Прокалить всю толщу бытия»; но на неосознаваемом уровне он против такой лечебной экзекуции: «затекст» свидетельствует, что Россию необходимо не сжечь, но отмыть от грязи. Новорожденная Россия – в яйце; а слова анаграммы «птич» «кал»[3] и отвечают на вопрос, кто вылупится из этого гигантского яйца (птичий помет, покрывающий яйцо, свидетельствует, что снесла его птица, а не змея или дракон). Россия – гигантская птица, готовая взлететь.
Фабульный слой затекста
Фабульный слой затекста (полная фонограмма) – эмоциональная, мотивационная подоснова произведения, а также его чувственная ткань – оказался хоть и трудным для расшифровки, но чрезвычайно содержательным. Встающие за фонограммой, реконструированные с помощью союза логики и воображения (а также упрощенной «категориальной сетки», т. е. сенсорных эталонов), динамичные картины – полнокровные образы внешней реальности воплощают реальность внутреннюю: истинные отношения, чувства, мечты и опасения автора (в том числе и те, о которых он сам не подозревает).
Этот слой обладает характеристиками, которые ранее приписывали только тексту; в нем обнаруживаются не только фабула, герои (в том числе новые по сравнению с текстом), характерные авторские приемы – любимые мотивы, метафоричность, игра с пространством и временем, сложный «кинематографический» монтаж, особые речевые характеристики героев, включение воображаемых персонажами событий наряду с реальными в событийную ткань и т. п., но и авторское отношение к описываемому. (Фабульный слой затекста уточняет, усиливает, дополняет и углубляет смысл текста, но может и находиться в оппозиции к последнему, показывая истинный взгляд автора на описываемое в тексте – что нередко скрывается автором от других и даже от самого себя.)
Находка для психоаналитика!
Экспериментально-психологическое исследование восприятия очень сложного поэтического произведения («Мой товарищ, в смертельной агонии…» И. Дегена) показало: чуткий слушатель способен адекватно воспринять, пусть и не осознавая, авторский затекст; возможно, именно это помогает ему глубоко понять смысл и направленность произведения [59].
И сама поэзия убеждает: даже ребенок-слушатель способен адекватно воспринять, пусть и не осознавая, затекст произведения: так, в затексте стихотворения Д. Самойлова «Из детства» совпадают персонажи и события фабульного слоя затекста же «Песни о вещем Олеге» А. Пушкина и воссозданного поэтом его детского восприятия этого шедевра.
Текст может изображать условное место и время, а затекст – вполне конкретное! Т. е. быть своего рода документом. Так, вампир-убийца условного Средневековья в тексте блоковского стихотворения 1909 г. «Я ее победил наконец» менее реален, чем герой затекста, пьющий в революционном 1905 году, в петербургском ресторане, вино (а не кровь), и так же, с таким же ужасом наблюдающий проезд всадников за окном – так же чувствуя дыхание Смерти в городе: «Революция и казнь короля ‹…› для дворянина-либертэна оказывается освобождением от Бога ‹…›, оргия – формой созерцания и самосозерцания, а вампир – «задумчивым» [52;106]. Связка «вампир – революция» оказалась неслучайной? Итак, не сладострастные демоницы Дуггура, как считал Д. Андреев [6], навеяли Блоку это «оргийное» стихотворение, но, если уж говорить этим языком, стихийная Велга. А точнее, мучительные картины первой русской революции.
Также документальны события, пережитые ранее автором, в «фабульном» слое тютчевского стихотворения «Вас развратило самовластье»: сначала кавалерийская атака, потом залпы пушек по восставшим декабристам; но удивительно предсказание мартыновским затекстом будущего события, рокового для русской поэзии (отрывок из поэмы «Гюрзель-аул»): двух дуэльных выстрелов в грозу. Графоман Николай Мартынов как бы срежиссировал свою будущую дуэль с Лермонтовым?
Анализ партитуры стихотворения помогает уточнить идею и даже жанр произведения. Так, стихотворение Н. Заболоцкого «Последние канны» – не просто образец пейзажной лирики, но произведение с социальным уклоном: в «затексте» описана фабрика убийства – Освенцим для деревьев. Таким образом, идея стихотворения – сопротивление не просто биологической смерти (Зиме), но и смерти социальной. (Ср.: «Проецируя на себя природу – или природу на себя, – Заболоцкий исследует самый болезненный и пугающий этап житейского цикла: умирание» [94;672].)
Подавляющее большинство картин, встающих за фонограммой, как и текст, удалены от читателя (в том числе и читателя-исследователя): их разделяет необходимая эстетическая дистанция. Но есть и исключения, подтверждающие правило: в финале стихотворения М. Волошина «Дом поэта» созданная автором за текстом удивительная картина Вечности как райского уголка (похожая на коктебельский берег, но населенная экзотическими птицами) проницаема. Читатель может попасть туда силой воображения и оставаться там – как в психотерапевтическом пространстве. Это пространство – не только автора, но и его! Всех? Приходит радостное понимание, что тебя здесь ждали. М. Волошин – великий собиратель и объединитель – создал это блаженное место не для себя одного, а (как и при жизни свой Дом поэта) для всех гостей. Это место встречи. «Всегда. Теперь. Сейчас».
* * *Примеры анализа анаграмматического и фабульного слоев затекста покажем на всем знакомом с детства стихотворении.
Симфония любви, или Психотерапевтические возможности поэзии для детей
…Только инстинктивное и подсознательное является подлинной основой таланта.
К. Чуковский. Две души М. ГорькогоПроведем сейчас что-то вроде семинара: разберемся с полной фонограммой (фабульным слоем затекста) и с характером его влияния на психику маленького ребенка.
Какие смыслы благодаря осколкам слов и их кластерам мы можем вычерпать из следующего анаграмматического слоя затекста?
Ал, линь, инь, низ, тон, нас, ас, их, ад, угу, гул, ять, ига, ил, бал, икра, рак, рака, ил, дут, ас, ус, жать, их, ад, угу, гул, ять, раз, аз, бой, Ник, ква, из, лад, ад, ладей, уж, ас, бар, мал, ал, лей, ей.[4]
Конец себя выдал. Обознаться невозможно: К. И. Чуковский, первая часть всеми любимого «Бармалея»:
Маленькие дети!Ни за что на светеНе ходите в Африку,В Африку гулять!В Африке акулы,В Африке гориллы,В Африке большиеЗлые крокодилыБудут вас кусать,Бить и обижать, —Не ходите, дети,В Африку гулять.В Африке разбойник,В Африке злодей,В Африке ужасныйБар-ма-лей!При разглядывании анаграмматического ряда можно увидеть суровый текст-резюме: несмирение с их адом (гулом ига), ибо их ас – дут. Явная отсылка к тексту: Бармалей – не только Антагонист, выражаясь терминами фольклориста В. Я. Проппа [118], но и Ложный Герой (дутый). Т. е. вступление к поэме как бы готовит слушателя, на уровне анаграммы, к дальнейшему развитию событий, весьма драматическому, а также к несмирению со Злом.
Но ведь сам Чуковский со временем стал определять жанр этого произведения как оперетту! Т. е. нечто веселое и легкое: «Свою сказку о Бармалее я назвал опереттой, потому что она состоит из целого ряда лирических арий, соединенных пародийно воспринятой драматической фабулой. Но, конечно, это оперетта не вокальная, а чисто словесная, так как, по-моему, в детях с самого раннего возраста необходимо воспитывать чувство не только музыкального, но и стихотворного ритма. Этой задаче я старался служить всеми своими детскими книжками, поскольку фонетика выдвинута в них на первое место (и всякому изменению сюжета соответствует изменение ритма). Но словесную оперетту я пишу впервые» [27].
Фонетика – конечно, не ритм, но оговорка Чуковского неслучайная, т. к. фонетика здесь очень важна, и она тут поистине гениальна. Про звукопись К. И. Чуковский упоминает не раз. Например, в связи с повествовательным темпом: «Все эти примеры я привожу для того, чтобы читателю стало ясно, какую огромную роль в нашей трудной и ответственной работе над стихами для малых детей играет эстетический вкус. Вкус контролирует и композицию стихов, и их звукопись, и систему их образов. Он с беспощадной суровостью вытравляет из каждого текста не только бесцветное, шаблонное, хилое, но даже удачное, если этим удачным замедляется повествовательный темп» [27].
Итак, одной командой бодро работают ритм, композиция, фонетика и система образов детской «оперетты». Поэтому когда, через несколько месяцев, анаграмма была нами перечитана, в ней открылись дополнительные, вполне праздничные, опереточные, смыслы: бал, икра, рак – вкусное и веселое идут в единой связке, а еще есть низкий тон и гул. И замечательное ква! (к которому – как и к линю – спешит переползти вовсе не алый, не вареный, но – ура! – живой рак). (И это почему-то стало напоминать другую гениальную детскую книжку – «Ветер в ивах» Кеннета Грэма.)