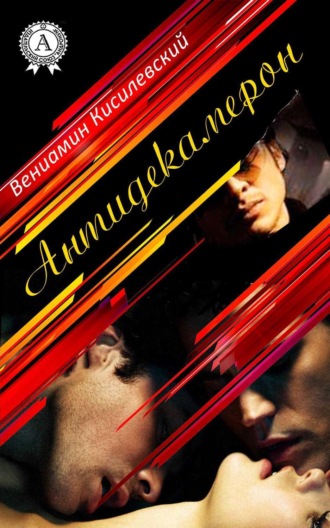
Полная версия
Антидекамерон

Вениамин Кисилевский
АНТИДЕКАМЕРОН
Александру Хавчину
1
Когда-то Дегтярев любил командировки. Любил пеструю сутолоку вокзалов, если дорога ему предстояла дальняя, чаще всего в Москву, на какое-нибудь совещание или иное сборище, коих в былые времена проводилось несчетно, с непременными финишными застольями, игриво именовавшимися «неофициальной частью», в лихой компании раскрепостившихся коллег. Любил проветриться, расслабиться в служебном автомобиле, снисходительно поглядывая на периферийные красоты и убожества, покуривая, пошучивая с услужливым водителем. Областные вояжи, конечно, уступали столичным по чину и размаху, зато искупалось это должным привечанием высокого гостя местными эскулапами, воздаваемыми почестями и ощущением собственной значимости. Вольно ему было казнить или миловать, встречавшие знали это, старались угодить ему, не настраивать против себя, а уж если прибывал он по делу конфликтному, нехорошими последствиями грозившему – только что на руках не носили.
Но предпочитал все-таки дальнюю рельсовую дорогу. Нравилось ему неспешно, солидно взойти в свое временное купейное обиталище, устроиться на обязательной нижней полке – а в последние годы неизменно в удобном СВ обосновывался, – потомиться в предвкушении нетягостного безделья, размеренности замкнутого колесного бытия, когда все его заботы ограничивались дорожным пропитанием да, если пожелается, общением с ниспосланными ему случаем попутчиками. Захочет – поспит, захочет – почитает или просто поглазеет в окно неутомленными глазами, о своем помыслит. И всякий раз – почти детское ожидание чего-то нового, неизведанного, вдруг поворотного. Негаданной встречи какой-то, особости. Бывали порой накладки, если соседями оказывались беспокойный младенец, голосящий в ночи, крепко перебравший хмельного назойливый мужик или какой-нибудь нечистоплотный тип, но в большинстве поездок ему везло, катил безмятежно, в свое удовольствие, нередко в компании милых женщин; с одной из них он грешным делом даже продлил в той же Москве приятное знакомство. А главное – никому тут не ведомо было, что он врач, никто не приставал к нему, не дергал, не хотел от него чего-то. И телефона в вагоне не было – ни утром, ни днем, ни – что милей всего – ночью. Благодать.
Но это когда-то. Теперь же все больше удручала Дегтярева необходимость ломать привычный уклад, лишаться своей постели, своего душа, туалета, существовать неизвестно где и с кем, приспосабливаться к ненужному, неудобному. Все многократно обострилось, когда нелады с желудком начались и поясница любое неосторожное движение хищно караулила, – каждая такая поездочка проблемой делалась. И он всеми правдами и неправдами старался избежать этой командировочной мороки. Благо времена теперь иные настали, Москва другой планетой сделалась, а он, Дегтярев, выбрался на уровень, когда за редкими исключениями уже не его посылали, а он посылал, мог выбирать. Покидал город лишь по крайней необходимости.
Об этом и думал Лев Михайлович, главный врач крупной городской больницы и главный областной анестезиолог, сидя рядом с водителем в белой больничной «Волге» и без интереса глядя на отощавшие, прохудившиеся деревья вдоль дороги, на тянувшиеся за ними изъеденные частыми дождями и ночными заморозками поля, на попадавшиеся изредка неказистые строения, такие же облезлые и унылые, на просевшее небо, темное и драное. Осень в этом году поторопилась, в августе уже заявила о себе нелетним хмурым ненастьем, а сейчас, в октябре, ветреном и холодном, больше походила на раннюю зиму, никакой надежды не оставляя. Но не только беспросветность вокруг портила Дегтяреву настроение, хватало и других причин. Ехать предстояло долгонько, больше двух часов, а клятый радикулит напомнил о себе еще ранним утром, и с каждым проглоченным десятком километров давал о себе знать все настойчивей, грозя превратить остаток пути в сплошное мучение. В районной больнице, куда направило его областное начальство, ждала Дегтярева тягостная разборка. Тем более тягостная, что тамошний главный врач, Боря Хазин, был его однокашником и давним приятелем.
Случай был – хуже не придумаешь. Умер больной от вливания несовместимой крови, за такую провинность, и поделом, карают нещадно, и как-либо спустить дело на тормозах не удастся. Не снести было головы всем причастным к этой нехорошей истории, Хазину, скорей всего, тоже – на него, упрямого и вспыльчивого, давно уже точили зубы в Областном министерстве здравоохранения. В прошлом году уцелел тот лишь благодаря титаническим усилиям его, Дегтярева, едва ли не вымолившего у министра снисхождения к Боре, не сдавшему вовремя какой-то ерундовый отчет. А Боре до пенсии еще полтора года. Пусть и петушится, что не держится он за свое главенство, каждый день душу ему выматывают, основное ремесло свое знает, руки не из задницы растут, пойдет рядовым хирургом, во всех отношениях выиграет. И злился Дегтярев на остолопов, загубивших больного, злился на Хазина, допустившего такой бардак в своей больнице, злился на себя, знавшего, что не сумеет разобраться с дружком, как тот того заслужил. Хотя, сам главный врач, понимал Дегтярев, что прямой вины Хазина нет – наверняка у него и занятия по гемотрансфузиям проводились, и семинары, и все это отражено в больничной документации с положенными датами и росписями. Не может ведь руководитель тенью ходить за каждым олухом. Или даже не олухом – бывают такие роковые стечения обстоятельств, что никакому здравому смыслу не подвластны, объяснений не имеют. И нет гарантии, что завтра, не приведи Господь, такая же беда не случится в его, Дегтярева, больнице.
А еще знал, что смущает, лишает его покоя Лиля, сидящая на заднем сиденье. Сестричка Лиля Оболенская, из-за которой почти два десятка лет назад совсем потерял он голову и столько дров наломал. Только теперь она не сестричка и не Лиля – Лилия Петровна и вряд ли Оболенская, врач Областного Центра крови, и он сегодняшним утром, впервые за много лет увидев ее, не сразу узнал в полноватой желтокудрой даме прежнюю тоненькую, русоволосую, ясноглазую девушку. Скорей даже не девушку, а девочку, мало походила она на дипломированную выпускницу медучилища, школяркой казалась.
Он, Дегтярев, когда появилась она в его отделении, подосадовал, что прислали ему такую пигалицу. Но по-мужски отметил, что девчушка она симпатичная, милая той тихой девственной красотой, которая должна тревожить, сна лишать пацанов-одноклассников, в беспокойных снах им являться. Но и в снах вряд ли могла она будить приглушенные днем мальчишеские желания – слишком высоким и чистым был ее лоб, доверчивы синие глаза и по-детски нежен голосок. Не то что обидеть, боль причинить – даже просто неучтиво заговорить, какую-либо бестактность по отношению к ней допустить казалось чуть ли не кощунством. Такие светлые тургеневские девушки уже и в те далекие годы почти все повывелись, считанные сохранились. Для обожания сохранились, для поклонения, для восторженно-неумелых юношеских стихов. Когда мнится счастьем неземным лишь руки ее коснуться, ответный взгляд ее заслужить, и кажется вздорной сама мысль повести себя с ней как с обычной девушкой, женщиной, покуражиться. Не только ее прыщавым сверстникам, но и вызревшим ушлым парням. И, словно и это задумывалось кем-то свыше, имя ей дадено было такое же нежное, ласковое, донельзя подходило ей.
Ее полудетское очарование Дегтярев отметил сразу, но никакого мужского интереса к ней не испытал. Да и какой мог возникнуть интерес к этой пичужке у него, сорокалетнего отца двух девчонок, старшая из которых почти ровесницей ей была? Главным врачом он тогда еще не был, заведовал анестезионно-реанимационным больничным отделением, и первая мысль, когда увидел Лилю, была о том, что проблемы у нее будут с работой. Служба у них нерядовая, связана с постоянными стрессами и немалыми физическими нагрузками, порой такого предельного напряжения требует, что и мужику не всякому под силу. Сестер в отделении не хватало, большие сложности были с ночными дежурствами, обрадовался он, когда позвонили ему из отдела кадров, сказали, что пришлют сейчас выпускницу училища. Предпочел бы он, конечно, работницу с опытом, чтобы можно было сходу к делу приспособить, не возиться с ней. Выбирать, однако, не приходилось, и на том, как говорится, спасибо. Но все же трепыхнулась в нем мыслишка отправить эту былиночку-тростиночку назад в кадры, потерпеть еще, пока не сыщется кто-нибудь более подходящий.
– Ты хоть представляешь себе, чем здесь придется заниматься? – спросил у нее. – У нас день и ночь пахать нужно, не пофилонишь.
– Представляю, – дрогнула пушистыми ресницами. – Я сама сюда попросилась.
– Ну-ну, – хмыкнул Дегтярев. – Найди Анну Никитичну, это наша старшая сестра, пусть тобою займется.
К его приятному удивлению, оказалась Лиля хорошим работником. Понятливая была и внимательная, быстро обучалась. Более того, оказалась она неожиданно выносливой, без видимой усталости самые долгие и трудные операции выстаивала, никогда не жаловалась, и руки у нее были не крюки. Обладала она еще одним нужным, особо в их профессии ценящимся качеством – благотворно влияла на своих немощных подопечных. И не только мужского пола. Тяжелые послеоперационные больные, даже лишь недавно отошедшие от наркоза, старались улыбнуться ей, не стенать громко и не капризничать. Полгода не прошло, а Лев Михайлович предпочитал уже брать ее помощницей на сложные, непредсказуемые операции, знал, что во всем может на нее положиться, не проморгает она и не замешкается.
Но всего удивительней, что остальные сестры, ревниво следящие, чтобы шеф не уделял кому-то из них больше внимания, – так уж издавна повелось в любом замкнутом медицинском коллективе, где большинство составляют молодые и незакомплексованные женщины, – не покусывали юную негаданную фаворитку. Изощренно и будто бы добра ей желая, как умеют это лучше всех лукавые медички. Сестры в его отделении были почти все вполне еще амурного возраста и не одна из них не прочь была бы полюбезничать с моложавым симпатичным завом. Что показательно – и суровая, взыскательная старшая сестра Никитична, спуску никому не дававшая, благоволила к Лиле, не отрывалась на ней. А Льву Михайловичу, и он не скрывал этого, Лиля Оболенская в самом деле пришлась по сердцу. И как человек, и как сотрудница. Опекал ее, похваливал, даже изредка, в радужном настроении, называл доченькой. И, если откровенно, с удовольствием заимел бы такую славную дочь, светлую и улыбчивую, не в пример его собственным, с характерами очень непростыми. Но уж никак не видел в ней женщину, объект для ухаживания, обольщения. И это он внушил Лиле, что надобно ей расти, учиться дальше, не пренебрегать своими способностями и возможностями. Это благодаря ему стала она заочно учиться на биологическом факультете, обретать высшее образование.
Личная жизнь Лили его мало интересовала, хотя были все основания полагать, что мужским вниманием она не обделена. В том числе у мужской части врачебного персонала больницы, особенно хирургов. Когда он в операционный день прибывал с Лилей в хирургическое отделение для дачи наркоза, молодцы сразу оживлялись, острили, заигрывали с обворожительной сестричкой. Не однажды случалось видеть Льву Михайловичу, как провожал кто-нибудь Лилю утром на дежурство или встречал после работы. И совсем молоденькие ребята, и постарше. Особенно настойчив был один, крупный, смуглый, скуластый парень, частенько карауливший Лилю у больничных врат. Никогда Дегтярев не позволял себе подначивать ее по этому поводу, вообще касаться этой темы. Впрочем, насколько он мог судить, ни один из них не преуспел. К слову сказать, все Лилины ухажеры, которых случайно выпало Дегтяреву увидеть, ему не понравились. Лиля, на его взгляд, заслуживала лучшего.
Он, наверное, был последним в отделении, кто заметил, что Лиля к нему, по выражению афористичной Никитичны, неровно дышит. Примечал, конечно, и жалобные взгляды ее, и то, как розовеет она, когда обращается он к ней, как радуется, если берет ее с собой на операцию, но фривольного, личностного значения этому не придавал. Потому, прежде всего, что давно привык уже к кокетливому обхождению своих сестричек, к тому же, повторяясь, как женщина она для него не существовала, не из той она была оперы. Вскоре, однако, не замечать преобразившегося Лилиного отношения к нему сделалось невозможным, слепым и глухим надо быть. Это, Дегтярев не сомневался, было уже не просто уважение и почитание – нечто большее. Был он вполне зрелым и опытным мужиком, чтобы оставаться в неведении. И сие «нечто» очень его встревожило. Прочувствовал он, что не блажь это и не прописное увлечение девочки зрелым мужчиной, что сплошь и рядом случается, тем паче если объект этот – ее начальник. Верней, не просто начальник, тогда все было бы проще и объяснимей, а учитель, наставник. Непостижимый и вечный комплекс. Так вызревающие школьницы всем классом влюбляются в своих преподавателей, зачастую типов совсем заурядных.
Встревожился он потому, что ни к чему это было и не к добру, лишь всему во вред, прежде всего работе. И жаль было безоглядно втюрившуюся девчонку, несовременно, он давно уже пригляделся к ней, искреннюю, чистую. Этого только не хватало. Ему и ей. Началось, точней продолжилось это воскресной ночью, в их совместное дежурство. В гинекологию привезли пожилую женщину с сильным кровотечением, было принято решение пойти на оперативное вмешательство, Дегтярева позвали давать наркоз. Операция непредвиденно затянулась, наркоз шел трудно, в довершение ко всему была женщина тучная, с сердечным пороком и обломным кровяным давлением, намучились они с Лилей изрядно. Когда, к счастью, все успешно завершилось, вернулись они в свое отделение, решили взбодрить себя чайком. Лиля вызвалась сама все приготовить, вскоре заявилась к нему в кабинет с чашками и бутербродами. Было это в порядке вещей, ему и раньше доводилось чаевничать по ночам и с Лилей, и с другими дежурными сестрами, ни о каком посягательстве на субординацию тут и речи не было. Уселись за журнальный столик в углу, специально для таких целей Дегтяревым приспособленный, он сделал первый желанный глоток, истомно потянулся, сказал ей:
– Что, доченька, досталось нам сегодня?
Лиля как-то странно взглянула на него, заполыхала – она всегда краснела легко и быстро – и еле слышно произнесла:
– У меня к вам просьба, Лев Михайлович. Пожалуйста, не называйте меня доченькой.
– Тебе это неприятно? – вскинул он брови.
– Я не хочу быть вашей доченькой, – выделила последнее слово.
Он мгновенно уразумел, что ответ этот с двойным или даже тройным дном, попытался отшутиться:
– Тебе было бы стыдно за такого отца?
– Вы ведь и так все про вас и про меня знаете, я же вижу, – опустила веки.
Он, чтобы его замешательство укрылось от нее, преувеличенно сосредоточился на поглощении чая, в лицо ей не глядел, в поле своего зрения оставив лишь ее стиснутые руки, маленькие и нежные как у ребенка, но по-женски красивые, ухоженные. Сейчас нужны были всего одна-две фразы, емкие и вразумительные, которые бы раз и навсегда все расставили по местам, не обидели ее, отрезвили. Чтобы могли после этого нормально общаться – он, в отцы ей годящийся, зав отделением, где она работает, и она, глупенькая девчонка, вообразившая себе невесть что. Сказал ей, недвижимо застывшей:
– Не надо портить наши отношения. Не выдумывай меня. – И, мгновенье назад не подозревая, что скажет ей это, добавил: – Иначе нам лучше расстаться.
Лиля молча поднялась и вышла из кабинета. А он долго еще сидел, вертя в пальцах опустевшую чашку, размышлял, верно ли себя повел, не перегнул ли палку. Все-таки должен был найти какие-то другие слова, добрые, отеческие, ведь совсем девчушка она, тут не топором бы, а тончайшим, осторожным скальпелем. Возможно, у Лили это первая любовь, пусть и такая несуразная, сомнительная, но именно поэтому требовавшая еще большего внимания и понимания, чтобы беды не натворить. Как если бы в самом деле была она его доченькой. Разве застрахованы его дочери, взбалмошные девчонки, от подобной истории? Легко ли им будет, если так же небрежно и холодно отнесется к ним обожаемый человек? Захотелось даже вернуть ее, успокоить. Но тут же погасил в себе это желание, доверившись старой врачебной истине, что рана скорей заживает, если не трогать ее руками и поменьше обращать внимание.
Вскоре он убедился, что решение принял верное. Оба они, как сговорившись, вели себя так, словно ничего между ними не произошло, не было того чаепития воскресной ночью. Дни шли за днями, в радостях и печалях, в заботах больших и малых, более удачные и менее, обычная и привычная жизнь, больничная и не больничная. Единственно, о чем позаботился Дегтярев, – составил график на будущий месяц так, чтобы их ночные дежурства не совпадали. На всякий случай. И по возможности старался не оставаться с Лилей наедине. Все же отчего-то чувствовал себя виноватым, хоть и не знал толком, в чем она, эта его вина, заключается.
Сдвинулось что-то на очередной утренней планерке, спокон веку звавшейся «пятиминуткой» и надолго затягивавшейся порой, когда не все ладно было в его отделенческой вотчине. Все было как всегда: отчет за минувшее ночное дежурство, состояние тяжелых больных, план работы на новый день. Лиля появилась в кабинете позже остальных, пришлось ей занять единственный свободный стул неподалеку от дегтяревского стола – обычно старалась она пристроиться где-нибудь подальше. Сидела, облаченная в голубую больничную униформу – курточку с короткими рукавами и брючки, – примерно сложив руки на коленях и глядя в пол. Слушая дежурившего врача, Дегтярев краем глаза поглядывал на ее слегка курносый профиль под высоким накрахмаленным колпаком, на оголенные руки. И обратил вдруг внимание, какие они у нее красивые, словно впервые увидел. Алебастрово белые, точно и не знойное лето на дворе, туго обтянутые молодой атласной кожей. Даже не коснувшись их, легко было догадаться, как нежны они и упруги. Поймал себя на коварном желании провести по ним ладонью, задержать в ней точеные Лилины пальчики. И настолько сильным, чувственным было это желание, что сам поразился. А она вдруг коротко посмотрела на него и порозовела, словно каким-то непостижимым образом проникла в его мысли. И тут же снова опустила глаза.
А ночью она приснилась ему. В безумном эротическом сне, которые много уже лет не являлись к нему, чуть ли не со дня женитьбы. Он пробудился, содрогаясь, изумился себе, потом долго лежал без сна, до подробностей вспоминая сгинувшее виденье. Утром он столкнулся с ней в дверях, и она снова, на миг опалив его синим взглядом, залилась горячей краской. Будто и сны его были ей доступны. Тем удивительней это было, что после того разлучного чаепития минуло уже почти две недели и раньше при встречах ничего подобного с ней не происходило. Больше того – выглядела в общении с ним зажатой, непроницаемой.
С того дня и началось это наваждение. Такого с ним не было и в заполошные юные годы, вообще никогда не было. Ну, влюблялся, конечно, томился, но никогда прежде так не сжигало его желание поскорей увидеть свою избранницу, заглянуть в ее глаза, голос услышать. Казалось, все на свете отдал бы, чтобы обняла она его своими прекрасными руками, слова любви прошептала. Точно вырвалась вдруг на волю откуда-то из сокровенной его глубины дремавшая дотоле пылкая страсть, о которой и не подозревал он, не помышлял, что вообще носит в себе. Ему стала нужна эта девочка, эта женщина, так нужна, что чем угодно рискнул бы…
Человек не импульсивный и не минутный, он искренне пытался разобраться в себе, постичь происходящее с ним. Что стряслось, что изменилось? Почему раньше, год уже прошел, не потянуло его к ней? Отчего ее недавнее почти не скрываемое признание в любви вызвало в нем лишь одно желание – поскорей и по возможности незатратно отдалиться от нее? Не видел что ли раньше ее белых рук, ее синих глаз, едва проступавшей из-под тонкой курточки полудетской груди? Злосчастный сон разбередил? Что разбередил? Или это начался вдруг пресловутый кризис мужского среднего возраста, когда сороковник близится, всплеск гормональный? А она, Лиля, как раз вовремя и подоспела? Изводила мысль, что, захоти он сблизиться с ней, сделай он только шаг ей навстречу – и она тут же откликнется, с радостью и готовностью. Если уж решилась сама признаться ему…
И еще в одном мог не сомневаться: добром эта история не кончится. Заведись он с ней – и вскоре все отделение, а затем и больница об этом узнают, как бы ни таились они, как бы ни ловчили. Каким образом – неизвестно, но обязательно узнают, печальных примеров тому не счесть. И вообще затевать какую-либо интрижку там, где работаешь… Сколько погорело на этом мужиков, достойных и недостойных. Не понимал он их никогда, не одобрял. И сам ни разу не позволил себе захороводить с какой-нибудь молоденькой врачишкой или сестричкой. Хотя, чего таить, нравились ему подчас, некоторые очень даже. А тут уж совсем дурно пахнущий случай – великовозрастный заведующий отделением и его медицинская девчонка-сестрица. И что ему нужно от нее? За ручку с ней ходить? В подъездах целоваться? Что невинна она еще – сто процентов. Не посмеет же он, двух уже взрослых дочерей отец, презреть ее девственность, святотатство такое совершить. Не позволит себе ломать ей судьбу. А для интрижек эта девушка не создана, за версту видать. Это, он предчувствовал, будет глубоко и сильно. Это будет страшно так же, как и восхитительно…
Он знал, что ему нужно делать. Ни единой лазейки себе не оставлял, упорно внушал себе, что не озабоченный мальчишка он и не оторва-сладострастник. Не воспользуется он ее слабостью. Пересилит себя. Заставит вести себя с ней так, как надлежит взрослому и порядочному мужчине. Чего бы ему ни стоило. А если не сумеет, не совладает подло, то грош ему тогда цена. Но он сумеет. На горло, если потребуется, себе наступит, потому что иного не дано.
Придя к этому непреклонному решению, Дегтярев не отказывал все же себе в малой радости лишний раз полюбоваться на нее. Хоть посмотреть. Не однажды ловил себя на том, что ищет случай увидеть Лилю, побыть с нею рядом, заговорить. Так бросивший курить норовит, когда невмоготу, подышать дымом чьей-нибудь сигареты, нечто сродни мазохизму. А Лиля, словно проведав о его зароке, держалась с ним ровно, без эмоций, разве что выдавал ее порой предательский румянец. Словно заключили друг с другом молчаливое соглашение.
Он зорко следил за выражением ее лица, и однажды, на утренней планерке, сразу заметил: что-то в ней изменилось. Ближе всего – прихворнула. Или дома проблемы. Пасмурная какая-то, глаза потускнели. Будто повредилась звонкая струнка, прямившая Лилино тоненькое тело. И взгляд ее один перехватил – не то виноватый, не то жалобный, не разобрать было. Следовало бы поговорить с ней, может, помочь ей чем-то мог, но планерка затянулась, он опаздывал на операцию. А она сменялась с дежурства, ушла. И следующий день был у нее выходной, когда же вновь увидел ее, выглядела она обычно. Разве что показалось ему, будто тень какая-то на нее легла, света поубавилось. Ничего он у нее спрашивать не стал, к тому же день выдался суетной, умирал больной после ампутации легкого, не до того было. И вообще остаться с ней наедине выпало ему лишь в конце следующего дня и не так, как всегда.
Привезли новый портативный наркозный аппарат, которого Дегтярев дождаться не мог; он, когда сообщили ему об этом, поспешил в больничный склад. Распаковал, полюбовался на него, поблескивающий хромом и никелем, извлек сопроводительные документы. И тут обнаружил, что забыл в кабинете очки – с недавних пор, если читать приходилось мелкий шрифт, без них не обходился. К тому же освещение было скудное. Кладовщица куда-то ушла, оставив его одного, он по внутреннему телефону позвонил Никитичне, попросил прислать сюда кого-нибудь с его очками. Складское помещение находилось в другом конце двора, пришлось подождать. Дегтярев сидел возле ящика на корточках, перебирал запасные детали, оглянулся, услыхав за спиной шаги. Это была Лиля. И он неожиданно взволновался. Оттого, наверное, что впервые оказались они наедине вне стен отделения. Ни с чем это не сопоставил, просто ощущение было тревожным.
Она подошла, отдала ему очки, присела рядом, нежно, как живого, погладила глянцевый аппаратный бок:
– Красивый какой…
А он неотрывно смотрел на ее белую гладкую руку, вдруг, как завороженный, накрыл ее кисть своею, задержал. Какое-то время ничего не происходило, они замерли недвижимо в этих неудобных позах, не глядели друг на друга. Глядели на свои сомкнутые руки. Потом медленно, точно опять сговорившись, выпрямились, оказались лицом к лицу. И трудно было сказать, кто к кому первым потянулся. Целовались жадно, исступленно, вминая друг друга в себя, изнемогая. Голова у него кругом пошла и, если бы не послышались к счастью или несчастью шаги спускавшейся к ним в подвал кладовщицы, все могло бы завершиться для обоих сокрушительно. Сделав отчаянные усилия, отпрянули, чуть отдышались. И ни звука так и не произнесли. Ни тогда, ни после, возвращаясь в отделение. Он ни о чем не жалел, ни в чем себя не упрекал. Он был счастлив. Не помнил, чтобы когда-нибудь был так счастлив. И знал уже, что никуда от судьбы не деться, так, значит, ему суждено – и будь что будет, что должно быть. Изредка они встречались взглядами, и читал он в ее волшебных синих глазах ту же нежность и жертвенность. Оставалась лишь одна проблема, извечная для влюбленных, – где уединиться им от глаз людских, чтобы натешиться, насладиться друг другом. Была, конечно, какая-никакая возможность закрыться с ней в его служебном кабинете, хоть на малое время одним поворотом ключа избавиться от всего и вся, и желалось ему этого невыносимо, но хватило рассудка не поддаться искушению. Да и не хотел он быть с нею «малое время», принижать, уродовать это вдруг ему выпавшее счастье. Потому что знал уже и то, что встреч впереди будет много, встреч солнечных, восхитительных. Надо было что-то придумать. Опыта в подобных делах у него не имелось. Гулёной не был, но и образцовым мужем назвать его было нельзя – пусть и случайные, редкие, однако шашни на стороне за ним все же водились. Но никогда ничего серьезного, длительного – так, легкие скоротечные романчики, в большинстве в тех же командировках. И почти никогда сам не был инициатором, отвечал взаимностью – издержки профессии. Ни в какое сравнение не шло с чувством, возникшим у него к Лиле. Входя в свой корпус, он нарушил молчание, тихо сказал ей:





