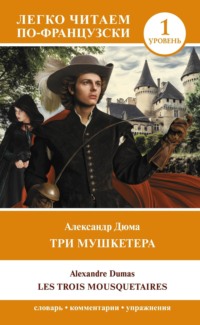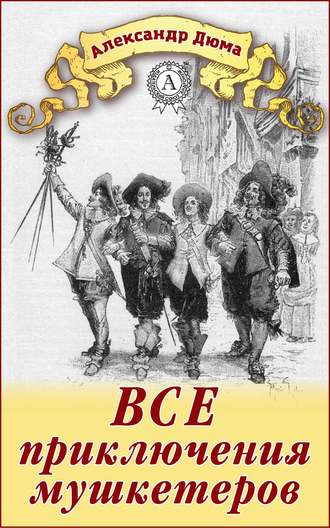
Полная версия
Все приключения мушкетеров
– Д’Артаньян похитил жену мою! Ах, что вы говорите!
– К счастью, д’Артаньян в наших руках и вы будете с ним на очной ставке.
– А! право, я ничего лучшего не желаю, сказал Бонасиё, я очень рад увидеть знакомое лицо.
– Приведите д’Артаньяна, сказал комиссар сторожам.
Сторожа привели Атоса.
– Г. д’Артаньян, сказал комиссар, обращаясь к Атосу, расскажите, что было между вами и этим господином.
– Но это не д’Артаньян, сказал Бонасиё.
– Как! это не д’Артаньян? сказал комиссар.
– Совсем не он, отвечал Бонасиё.
– Как же зовут этого господина? спросил комиссар.
– Не могу вам сказать, потому что я его не знаю.
– Как, вы его не знаете?
– Нет.
– Вы никогда не видали его?
– Видел, но не знаю его имени.
– Имя ваше? спросил комиссар.
– Атос, отвечал мушкетер.
– Но это не есть имя человека, это название горы, сказал бедный комиссар, начинавший терять соображение.
– Это мое имя, сказал спокойно Атос.
– Но вы сказали, что вас зовут д’Артаньяном.
– Я?
– Да, вы.
– То есть мне сказали: вы господин д’Артаньян? Я отвечал: вы так полагаете? Стражи сказали, что они в том уверены. Я не хотел противоречить им. Впрочем, я мог ошибаться.
– Милостивый государь, вы смеетесь над правосудием.
– Нисколько, сказал спокойно Атос.
– Вы д’Артаньян?
– Видите, вы еще раз говорите мне то же самое.
– Но, сказал в свою очередь Бонасиё, – я говорю вам, г. комиссар, что тут не может быть никакого сомнения. Г. д’Артаньян жилец мой, следовательно я должен знать его, тем более, что он не платит мне за квартиру, Д’Артаньян молодой человек, девятнадцати или двадцати лет, не больше, а этому господину не меньше тридцати лет. Д’Артаньян служит в гвардии Дезессара, а этот господин из роты мушкетеров де-Тревиля; посмотрите на мундир.
– Это правда, проговорил комиссар, – это правда.
В эту минуту дверь быстро отворилась и вошедший в сопровождении часового почтальон подал комиссару письмо.
– О, несчастная! вскричал комиссар.
– Как! что вы говорите? о ком? Надеюсь, не о жене моей?
– Напротив, о ней. Ваше дело идет славно, нечего сказать.
– Ах! сказал раздраженный лавочник, – скажите пожалуйста, каким образом мое дело может принять худший оборот от того, что делает жена моя в то время, когда я нахожусь в тюрьме!
– Потому что то, что она делает, есть следствие плана, составленного вами обоими, адского плана!
– Клянусь вам, г. комиссар, что вы в величайшем заблуждении, что я решительно ничего не знаю о том, что должна была делать и что сделала жена моя, и если она наделала глупостей, то я отказываюсь от нее, не одобряю ее, проклинаю ее!
– Если вы не имеете больше надобности во мне, сказал Атос комиссару, – то отошлите меня куда-нибудь; ваш Бонасиё очень скучен.
– Отведите пленных в тюрьму, сказал комиссар, указывая одним жестом на Атоса и Бонасиё, и пусть их стерегут как можно крепче.
– Но если ваше дело касается до д’Артаньяна, то я не вижу, как могу я заметить вам его, сказал Атос с обычным спокойствием.
– Делайте что я приказываю, сказал комиссар, – и под величайшею тайной; – слышите!
Атос последовал за стражей, пожав плечами, а Бонасиё с воплями, способными растрогать сердце тигра.
Лавочника привели в ту же тюрьму, где он провел ночь, и оставили его там на весь день. Бонасиё во весь этот день плакал, как настоящий лавочник; он сам сказал, что не был военным. Впрочем около девяти часов, в ту минуту, когда он решался лечь в постель, он услышал шаги в коридоре. Шаги приблизились к его темнице, дверь отворилась, стражи вошли.
– Идите за мной, сказал полицейский чиновник, который пришел со стражей.
– Идти за вами! сказал Бонасиё: – идти за вами в эту пору! куда же это, Боже мой?
– Куда нам велено отвести вас.
– Но это не ответ.
– Единственный, который мы можем дать вам.
– Ах, Боже мой, Боже мой, шептал бедный лавочник, – теперь-то я пропал!
И он машинально, без сопротивления, последовал за пришедшей за ним стражей.
Он прошел через тот же самый коридор, по которому вели его прежде, прошел первый двор, потом через другой корпус дома, наконец у наружных ворот увидел карету, окруженную четырьмя верховыми. Его посадили в эту карету, полицейский чиновник сел с ним, дверцу заперли на ключ и оба очутились в подвижной темнице.
Карета двинулась медленно, как погребальная колесница; сквозь решетку пленный видел только дома и мостовую; но Бонасиё, как настоящий парижанин, узнавал каждую улицу по заборам, вывескам и фонарям. Подъезжая к улице Св. Павла, где обыкновенно казнили осужденных, он чуть не лишился чувств и перекрестился два раза. Он думал, что карета должна тут остановиться. Но она проехала мимо.
Далее им еще раз овладел страх, когда проезжали мимо кладбища Св. Иоанна, где погребали государственных преступников. Одно обстоятельство немного его успокоило, именно то, что прежде нежели хоронили их, обыкновенно отрубали им головы, а его голова была еще на плечах. Но когда он заметил, что карета поехала по направлению к Гревской площади, когда увидел острые крыши ратуши, когда карета въехала под свод, он думал, что все уже для него кончено, хотел исповедоваться полицейскому чиновнику и на отказ его поднял такой жалобный крик, что чиновник объявил ему, что заткнет ему рот, если он не перестанет оглушать его.
Эта угроза немного успокоила Бонасиё: если бы хотели казнить его на Гревской площади, то не стоило бы затыкать ему рот, потому что почти уже доехали до места. Действительно, карета проехала роковую площадь, не останавливаясь. Оставалось опасаться только Трагуарского креста, и в самом деле карета поехала по направлению к этому месту. Тут уже не оставалось никакого сомнения; у Трагуарского креста наказывали второстепенных преступников. Бонасиё льстит себе, считая себя достойным Св. Павла или Гревской площади; у Трагуарского креста должны были окончиться путешествие его и участь! Он не мог еще видеть этого несчастного креста, но как будто чувствовал уже, что приближался к нему. Когда он был в двадцати шагах от него, то услышал шум и карета остановилась. Это было выше сил бедного Бонасиё, подавленного уже столькими испытанными им ощущениями. Он издал слабый стон, который можно было принять за последний вздох умирающего, и лишился чувств.
XIV. Менгский знакомец
Страх Бонасиё был напрасен: причиной стечения народа было не ожидание зрелища казни, а желание полюбоваться на человека, уже прежде повешенного.
Карета, остановившаяся на минуту, двинулась дальше, проехала сквозь толпу, продолжая путь в улицу С. Оноре; потом поворотила в улицу Добрых Детей и остановилась у небольших ворот одного дома.
Ворота отворились, и двое стражей приняли на руки Бонасиё, поддерживаемого полицейским чиновником; втолкнули его на крыльцо, заставили подняться по лестнице и посадили в передней.
Все эти движения они делал машинально.
Он шел как во сне, видел все предметы как в тумане, уши его слышали звуки, не понимая их; в эту минуту могли бы казнить его, и он не сделал бы ни одного движения для своей защиты и не испустил бы звука для просьбы о пощаде.
Таким образом он оставался на скамье, опершись спиною в стену, свесив руки вниз, на том же месте, куда его посадили стражи.
Между тем осмотревшись кругом, он не заметил ничего страшного; ничто не доказывало, чтоб он подвергался действительной опасности; скамейка была довольно мягкая, стены были покрыты прекрасною кордуанскою кожей; большие занавесы красного дома висели на окнах, поддерживаемые золотыми ручками; мало-помалу он начал понимать, что страх его был преувеличен, и наконец начал поворачивать голову вправо и влево, вверх и вниз.
Так как этому движению никто не противился, то он сделался смелее, рискнул переставить сперва одну ногу, потом другую, наконец с помощью обеих рук приподнялся со скамейки и встал на ноги. В это время офицер, приятной наружности, продолжая разговаривать с особой, находившеюся в соседней комнате, приподнял портьеру и, обращаясь к пленнику, спросил:
– Вы Бонасиё?
– Да, милостивый государь, к вашим услугам, проговорил, дрожа всем телом, лавочник.
– Войдите, сказал офицер.
И посторонился настолько, чтобы лавочник мог пройти. Бонасиё повиновался без возражений и вошел в комнату, где, казалось, его ожидали.
Это был большой кабинет, стены которого были украшены разными оружиями; воздух в нем был спертый и удушливый, и в камине разведен был огонь, несмотря на то что это было еще в конце сентября. Квадратный стол, покрытый книгами и бумагами, сверх которых был развернут огромный план ла-Рошели, занимал средину комнаты.
Перед камином стоял человек среднего роста, высокомерного и гордого вида, с проницательными глазами, широким лбом, худощавый лицом, казавшимся еще продолговатее от эспаньолки и усов. Хотя ему было не больше тридцати шести или семи лет от роду, но волосы, усы и эспаньолка были с проседью; за исключением шпаги, все в нем показывало военного, и большие сапоги его, слегка покрытые пылью, доказывали, что в этот день он ездил верхом.
Это был Арман-Жан Дюплесси, кардинал Ришельё, не такой как его обыкновенно изображают, разбитый как старик, страдающий как мученик, с расслабленным телом, глухим голосом, погруженный в большое кресло, как в преждевременную могилу, существующий только силою своего гения и поддерживающий борьбу с Европой только неутомимым трудом мысли; но такой, каким он действительно был в то время, то есть ловкий и любезный кавалер, уже слабый телом, но поддерживаемый моральною силой, делавшею его одним из самых необыкновенных людей, когда-либо существовавших; готовящийся, наконец, после поддержки герцога Невера в Мантуе, после взятия Нима, Кастры и Иозеса, к изгнанию Англичан с острова Ре и к осаде ла-Рошели.
С первого взгляда ничто в нем не обозначало кардинала, и тем, кто не знал его в лицо, невозможно было угадать, перед кем они находились.
Бедный лавочник стоял у дверей, между тем как глаза описанной нами особы устремились на него и, казалось, хотели проникнуть глубину его мысли.
– Это и есть Бонасиё? спросил он после минутного молчания.
– Точно так, отвечал офицер.
– Хорошо, дайте мне вот эти бумаги и оставьте нас.
Офицер взял со стола указанные бумаги, подал их и, поклонившись до земли, вышел.
Бонасиё узнал, что бумаги эти были допросы его в Бастилии. По временам стоявший у камина кардинал отводил глаза от бумаги и устремлял на бедного лавочника такие проницательные взгляды, как будто хотел проникнуть в глубину души его. После десятиминутного чтения и десяти секунд наблюдения, кардинал все понял.
«Эта голова никогда не участвовала в заговоре, сказал он про себя, – но все равно, все таки посмотрим».
– Вы обвинены в государственной измене, сказал протяжно кардинал.
– Это мне уже говорили, сказал Бонасиё, – но клянусь вам, что я об этом ничего не знал.
Кардинал скрыл улыбку.
– Вы были в заговоре с женой вашей, с г-жей де-Шеврёз и с герцогом Бокингемом.
– Действительно, я слышал от нее все эти имена.
– По какому случаю?
– Она говорила, что кардинал Ришельё привлек герцога Бокингема в Париж, чтобы погубить его и королеву.
– Она это говорила? спросил кардинал с гневом.
– Да; но я сказал ей, что глупо говорить подобные вещи, и что кардинал неспособен…
– Молчите, вы глупы, сказал кардинал.
– То же самое говорила мне и жена.
– Знаете ли вы, кто похитил жену вашу?
– Нет.
– Но вы имеете подозрения?
– Да; но эти подозрения, кажется, не понравились г. комиссару, и я не подозреваю уже никого.
– Ваша жена убежала; знаете ли вы об этом?
– Нет, я узнал об этом только в тюрьме от г. комиссара, человека очень любезного.
Кардинал вторично скрыл улыбку.
– Так вы не знаете, что сталось с женой вашей после бегства?
– Решительно не знаю; но она должна была возвратиться в Лувр.
– В час пополудни ее еще там не было.
– Ах, Боже мой! но что же с нею случилось?
– Будьте спокойны, об этом узнают; от кардинала ничто не скроется; он все знает.
– В таком случае, разве вы думаете, что кардинал согласится сказать мне, что сделалось с моею женой.
– Может быть, но надобно прежде, чтобы вы признались во всем что вам известно об отношениях жены вашей к г-же де-Шеврёз.
– Но я ничего не знаю и никогда не видал ее.
– Когда вы ходили за женой в Лувр, возвращалась ли она всегда прямо домой?
– Почти никогда, она имела дела с продавцами полотна, к которым я провожал ее.
– Сколько же было продавцов полотна?
– Двое.
– Где они живут?
– Один в улице Вожирар, другой в улице Ля-Гарп.
– Заходили вы к ним с нею вместе?
– Никогда: я дожидался ее у ворот.
– Под каким же предлогом она заходила одна?
– Она ничего мне не говорила; приказывала мне ждать ее, и я ждал.
– Вы снисходительный муж, любезный мой г. Бонасиё, сказал кардинал.
«Он называет меня своим любезным господином, подумал лавочник. – Дела идут хорошо».
– Можете ли вы указать те ворота?
– Да.
– Вы знаете нумера?
– Да.
– Назовите их.
– № 25 в улице Вожирар и № 75 в улице Ля-Гарп.
– Хорошо, сказал кардинал.
При этих словах он взял серебряный колокольчик и позвонил; офицер вошел.
– Позовите ко мне Рошфора, сказал он вполголоса; – чтоб он явился сейчас же, если он дома.
– Граф здесь, сказал офицер, – и настоятельно просит позволения говорить с вашею эминенцией.
– Пусть же он войдет, сказал с живостью Ришельё.
Офицер бросился из комнаты с быстротою, с какою обыкновенно исполнялись все приказания кардинала.
«С вашею эминенцией!» бормотал Бонасиё, озираясь дико кругом.
Не прошло пяти секунд после ухода офицера, как дверь отворилась и вошло новое лицо.
– Это он! сказал Бонасиё.
– Кто он? спросил кардинал.
– Тот, который похитил жену мою.
Кардинал позвонил снова. Офицер явился.
– Отдайте этого человека в руки двоих стражей; пусть он ждет, когда я снова позову его.
– Нет, нет, это не он! сказал Бонасиё, – нет, я ошибся; это был другой, совсем непохожий на этого. Этот господин – честный человек.
– Уведите этого глупца! сказал кардинал.
Офицер взял Бонасиё под руку и отвел его в переднюю, где были двое стражей.
Рошфор с нетерпением следил глазами за Бонасиё до тех пор, пока он вышел, и как только затворилась за ним дверь, он быстро подошел к кардиналу и сказал:
– Они виделись.
– Кто?
– Она и он.
– Королева и герцог? сказал Ришельё.
– Да.
– Где же?
– В Лувре.
– Вы уверены?
– Совершенно уверен.
– Кто вам сказал?
– Г-жа де-Ляннуа, которая, как вам известно, совершенно предана вам.
– Зачем же она не сказала раньше?
– Королева случайно или по недоверчивости приказала г-же де-Сюржи спать в своей комнате и удержала ее у себя на целый день.
– Хорошо, мы побеждены. Постараемся поправить дело.
– Я всею душой готов помогать вам, будьте спокойны.
– Как это случилось?
– В половине первого королева была с своими придворными дамами.
– Где?
– В своей спальне.
– Ну?…
– Ей принесли платок от дамы, заведывающей ее бельем.
– Потом?
– Королева тотчас обнаружила сильное волнение, и несмотря на румяна, покрывавшие лицо ее, побледнела.
– Потом? Потом?
– Несмотря на то, она встала и сказала своим дамам взволнованным голосом: «подождите меня, через десять минут я приду». Она отворила дверь алькова и вышла.
– Отчего г-жа де-Ляннуа не пришла в ту же минуту предупредить вас?
– Еще ничего не было известно наверное, притом же королева сказала: «подождите меня,» – и она не смела ослушаться королевы.
– Сколько времени королевы не было в комнате?
– Три четверти часа.
– Ни одна из дам не сопровождала ее?
– Только донеа Естефана.
– Потом она возвратилась?
– Да, для того только чтобы взять ящичек розового дерева с ее вензелем, и тотчас же вышла.
– А когда она возвратилась, принесла ли она этот ящик назад?
– Нет.
– Знает ли г-жа де-Ляннуа что было в этом ящике?
– Да: бриллиантовые эксельбантные наконечники, подаренные королеве его величеством.
– И она пришла без ящика?
– Да.
– Полагает ли г-жа де-Ляннуа, что она отдала их Бокингему?
– Она в том уверена.
– Почему?
– На другой день г-жа де-Ляннуа, имеющая обязанность наблюдать за туалетом королевы, искала этого ящичка, показала вид, что беспокоится и, не находя его, наконец спросила о нем королеву.
– И королева?…
– Королева очень покраснела и отвечала, что накануне изломала один из наконечников и послала к ювелиру починить.
– Надобно пойти узнать правда ли это?
– Я уже ходил.
– Ну, что же сказал ювелир?
– Он ничего не слыхал об этом.
– Хорошо! Хорошо, Рошфор! не все еще потеряно, и может быть… может быть, все к лучшему.
– Дело в том, что я не сомневаюсь, чтобы гений ваш…
– Не придумал, как поправить глупость своего агента, не так ли?
– Если бы вы позволили мне окончить фразу, я сказал бы то же самое.
– Знаете ли вы, где скрывались герцогиня де-Шеврёз и герцог Бокингем?
– Нет, люди мои не могли сказать ничего положительного об этом.
– А я знаю.
– Вы?
– Да, или по крайней мере я так думаю. Они были один в улице Вожирар № 25, другой в улице Ля-Гарп № 75.
– Угодно ли вам, чтоб я арестовал их обоих?
– Теперь уже поздно: они наверно уехали.
– Все равно, можно справиться.
– Возьмите десять человек из моих гвардейцев и обыщите оба дома.
– Иду.
И Рошфор бросился вон из комнаты.
Оставшись один, кардинал подумал с минуту и позвонил в третий раз.
– Тот же офицер явился.
– Приведите пленника, сказал кардинал.
Снова привели Бонасиё; по знаку кардинала офицер удалился.
– Вы меня обманули, строго сказал кардинал.
– Я! я обманул вашу эминенцию! сказал Бонасиё.
– Ваша жена ходила не к продавцам полотна в улицы Вожирар и Ля-Гарп.
– Боже праведный, к кому же она ходила?
– Она ходила к герцогине де-Шеврёз и герцогу Бокингему.
– Да, сказал Бонасиё, припоминая, – вы правы. Я несколько раз говорил жене, что это удивительно, что продавцы полотна живут в таких домах, где нет и вывесок, и жена каждый раз смеялась. Ах! сказал Бонасиё, бросаясь к ногам кардинала, – вы действительно кардинал, великий кардинал, гениальный человек, которого все уважают.
Как ни ничтожно было торжество, одержанное над таким простым человеком, каков был Бонасиё, кардинал все-таки насладился им минуту; потом сейчас же, как будто в уме его промелькнула новая мысль, на губах его появилась улыбка и, протягивая руку лавочнику, он сказал:
– Встаньте, друг мой, вы честный малый.
– Кардинал дотронулся до моей руки! Я дотронулся до руки великого человека! вскричал Бонасиё. – Великий человек назвал меня своим другом!
– Да, друг мой, да! сказал кардинал отеческим тоном, который он иногда принимал, но которым он обманывал только тех, кто не знал его. – Так как вас подозревали напрасно, следовательно вам нужно удовлетворение, то возьмите этот кошелек, с сотнею пистолей, и извините меня.
– Мне извинить вас! сказал Бонасиё. не решаясь взять кошелек, вероятно опасаясь, что этот предлагаемый подарок только шутка. – Но вы могли арестовать меня, вы можете подвергнуть меня пытке, повесить меня, вы властелин, я не смел бы сказать ни слова. Вас извинить! Помилуйте, что вы говорите!
– Ах, любезный мой Бонасиё, я вижу вы великодушны, и благодарю вас за это. Итак, вы возьмете этот кошелек и уйдете не совсем недовольным.
– Я ухожу в восторге.
– Прощайте же, или, лучше сказать, до свидания, потому что я надеюсь, что мы увидимся.
– Когда вам будет угодно; я всегда готов к вашим услугам.
– Будьте спокойны, мы будем часто видеться, потому что я нахожу чрезвычайное удовольствие в вашей беседе.
– О! ваша эминенция!
– До свидания, г. Бонасиё, до свидания.
Кардинал сделал ему знак рукой, на который Бонасиё отвечал поклоном до земли и вышел, пятясь назад. Когда он проходил чрез переднюю, то кардинал слышал, как он с восторгом кричал: да здравствует его эминенция! да здравствует великий кардинал! Кардинал выслушал с улыбкой восторженное излияние чувств Бонасиё, потом, когда крики его постепенно исчезли вдали, он сказал:
– Это хорошо, теперь этот человек готов умереть за меня. Кардинал начал с величайшим вниманием рассматривать карту ла-Рошели, разложенную, как мы уже сказали, на его письменном столе, чертя карандашом линию, где должна была пройти знаменитая плотина, которою полтора года спустя заперта была гавань осажденного города.
Когда он был вполне погружен в эти стратегические соображения, дверь снова отворилась и вошел Рошфор.
– Ну, что? спросил кардинал, вставая с места с живостью, доказывавшею степень важности, которую он придавал поручению, возложенному на графа.
– Действительно, отвечал он, – молодая женщина двадцати шести или двадцати восьми лет и мужчина тридцати пяти или сорока лет жили, – один четыре дня, другая пять в тех домах, о которых вы говорили; но женщина уехала сегодня ночью, а мужчина утром.
– Это они! сказал кардинал, смотря на часы. – И теперь, продолжал он, – уже поздно догонять их: герцогиня уже в Туре, а герцог в Булони. Надо настигнуть их в Лондоне.
– Какие будут ваши приказания?
– Ни слова о том, что произошло; надо, чтобы королева была совершенно спокойна; чтоб она не знала, что нам известна ее тайна, пусть она думает, что мы преследуем какой-нибудь заговор. Пошлите ко мне канцлера Сегие.
– А что вы сделали с этим человеком?
– С каким? спросил кардинал.
– С Бонасиё?
– Всё что было возможно. Я сделал из него шпиона жены его.
Граф Рошфор поклонился, как человек, глубоко сознающий превосходство своего господина, и вышел.
Оставшись один, кардинал снова сел, написал письмо, запечатал его своею собственною печатью и позвонил.
Офицер вошел в четвертый раз.
Позовите ко мне Витре, сказал он, – и скажите, чтоб он приготовился в дорогу.
Минуту спустя, человек, которого он требовал, стоял перед ним, в сапогах со шпорами.
– Витре, сказал кардинал, – вы поедете немедленно в Лондон. Не останавливайтесь в дороге ни на минуту. Вы отдадите это письмо миледи. Вот вам предписание о выдаче двухсот пистолей, подите к моему казначею и велите выдать их вам. Вы получите столько же, если возвратитесь назад через шесть дней и хорошо исполните мое поручение.
Курьер, не говоря ни слова, поклонился, взял письмо и предписание о двухстах пистолей и вышел.
Вот в чем состояло письмо:
«Миледи.
Будьте на первом бале, где будет герцог Бокингем. У него на камзоле будет двенадцать бриллиантовых наконечников, подойдите к нему и отрежьте два из них. Когда эти наконечники будут в ваших руках, уведомьте меня».
XV. Приказные и военные
На другой день после этих происшествий Атос не являлся, д’Артаньян и Портос уведомили об этом де-Тревиля. Что касается до Арамиса, то он взял отпуск на пять дней и был в Руане, как говорили, по семейным делам.
Де-Тревиль был отцом своих солдат. Самый незначительный и неизвестный из них, лишь только надевал мундир его роты, мог быть уверен в его помощи и опоре, как бы его родной брат.
Он сейчас же отправился к главному уголовному судье. Позвали офицера, начальствовавшего над постом Красного Креста и после продолжительных расспросов узнали, что Атос был на время помещен в Фор л’Евек.
Атос прошел чрез все те испытания, которые перенес Бонасиё.
Мы говорили об очной ставке обоих пленников. Атос, чтобы дать время д’Артаньяну, до сих пор ничего не говорил и теперь только объявил, что его звали Атосом, а не д’Артаньяном.
Он прибавил, что не знал ни господина, ни госпожи Бонасиё, что никогда не говорил ни с тем, ни с другим; что он пришел около десяти часов вечера навестить друга своего д’Артаньяна, а до этого часа был у де-Тревиля, где и обедал; двадцать свидетелей, говорил он, – могли подтвердить истину, и назвал многих известных дворян, между прочими герцога де-ла-Тремуля.
Второй комиссар был озадачен не меньше первого простым и бойким объяснением мушкетера; ему, как гражданскому чиновнику, очень хотелось бы обвинить военного; но имена де-Тревиля и герцога де-ла-Тремуля заставили его задуматься.
Атос был также отправлен к кардиналу; но, к несчастию, кардинал был в Лувре у короля. Это было именно в то время, когда де-Тревиль, побывав у главного уголовного судьи и у губернатора Фор л’Евека и не найдя Атоса, пришел к его величеству.