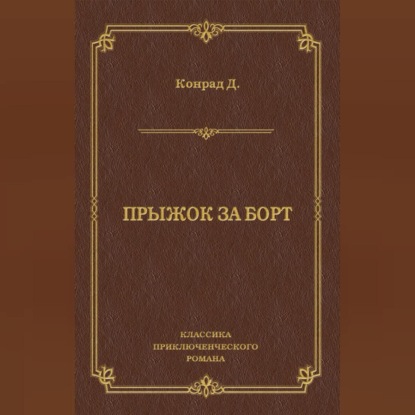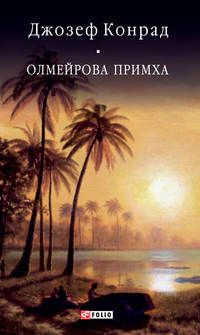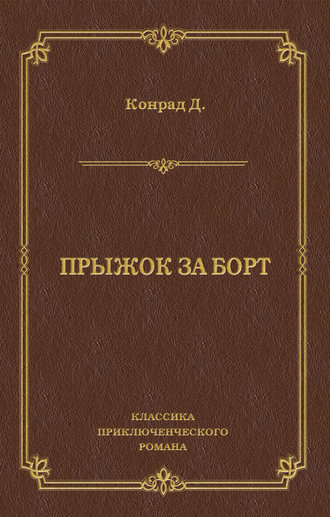
Полная версия
Прыжок за борт

Джозеф Конрад
Прыжок за борт
© ООО «ТД Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», 2009
Вступление автора
Уверенность моя крепнет с того момента, когда другая душа разделит ее.
НовалисКогда я выпустил этот роман отдельной книгой, заговорили о том, что я вышел за рамки задуманного. Кое-кто из критиков утверждал, будто начал я новеллу, а затем она ускользнула из-под моего контроля. Они напоминали: повествовательная форма имеет свои законы, и считали, что ни один человек не может говорить так долго, а остальные не могут так долго слушать. По их мнению, это маловероятно.
Около шестнадцати лет я раздумывал над этим и, признаться, не так в этом уверен. Нередко люди, – на тропиках и в умеренном климате, – просиживали полночи, рассказывая друг другу сказки. Здесь перед нами лишь одна сказка, но рассказчик говорил с перерывами, что позволяло слушателям отдыхать; если же говорить о выносливости слушателей, следует помнить: история была интересна. Это – необходимая предпосылка. Не считая историю занимательной, я никогда не стал бы ее писать. Что же касается физической выносливости, то всем нам известно: парламентские ораторы произносили свои речи не три часа, а целых шесть, тогда как часть книги, заключающую рассказ Марлоу, можно прочесть вслух меньше чем за три часа. Ну, а помимо всего, мы можем предположить, что в тот вечер подавались прохладительные напитки, помогавшие рассказчику довести историю до конца.
Нужно сознаться: я задумал написать рассказ, темой для которого выбрал эпизод с паломническим судном – и только. Таков был первоначальный план. Написав несколько строк, я остался чем-то недоволен и отложил на время работу. Я не вынимал рукопись из ящика до той поры, пока покойный мистер Уильям Блеквуд не предложил мне снова дать что-нибудь в его журнал.
Вот тогда-то мне показалось, что эпизод с паломническим судном поможет развернуть большую повесть.
Те немногие страницы, какие пролежали у меня в ящике, до некоторой степени повлияли на выбор темы. Но весь эпизод я переделал заново.
Иногда мне задавали вопрос, не является ли эта книга самой любимой из всех мной написанных. Я ненавижу фаворитизм и в общественной жизни и в частной; столь же враждебен мне он и тогда, когда речь заходит об отношении автора к своим произведениям. Фаворитов я не хочу иметь принципиально; однако не стану говорить, что мне не нравится, когда иные оказывают предпочтение моему «Lord Jim», не скажу даже, что «я отказываюсь понять»… Ни в коем случае! И все-таки однажды я был сбит с толку.
Один из моих друзей вернулся из Италии, где беседовал с дамой, которой эта книга не понравилась. Конечно, я об этом пожалел, но что меня удивило, так это основание такой неприязни. «Вы знаете, – сказала она, – все это так болезненно».
Этот приговор заставил меня целый час тревожно размышлять. Допуская, что тема до известной степени чужда женщинам с нормальной восприимчивостью, я пришел к заключению, что эта дама не могла быть итальянкой. Я сомневаюсь даже в том, была ли она жительницей континента. Во всяком случае, ни один человек, в чьих жилах течет романская кровь, не счел бы болезненной ту остроту, с какой человек реагирует на утрату чести. Подобная реакция либо ошибочна, либо правильна; быть может, ее сочтут искусственной и осудят; возможно, мой Джим, как тип, встречается не очень часто, но я заверяю читателей, что он не является плодом извращенной фантазии.
Он – не житель страны Северных Туманов. Однажды солнечным утром в повседневной обстановке одного из восточных портов видел я, как он прошел мимо, умоляющий, выразительный, безмолвный, «в тени облака». Таким он и должен быть. И со всем сочувствием, на какое я способен, я должен был найти нужные слова, чтобы о нем рассказать. Он был одним из нас.
Джозеф Конрад
Июнь, 1917
Глава I
Ростом он был, пожалуй, на один-два дюйма меньше шести футов, крепко сложен; слегка сгорбившись, он шел прямо на вас, опустив голову и пристально глядя исподлобья, что вызывало в вас образ быка, бросающегося в атаку. Голос у него был глубокий и громкий, а держал он себя так, как будто упрямо добивался признания своих прав. Однако в этом не было ничего враждебного. Казалось, эта настойчивость вызвана была необходимостью и, по-видимому, относилась и к нему самому и ко всем окружающим. Одет он был всегда безупречно, с ног до головы в белом, и пользовался большой популярностью в различных восточных портах, где служил морским клерком в фирмах, снабжавших суда различной утварью.
От морского клерка не требуют никаких дипломов, но он должен отличаться деловой сноровкой. Его обязанности заключаются в том, чтобы в лодке или на катере обгонять других морских клерков, первым подплывать к судну, готовому бросить якорь, и приветствовать капитана, вручая ему проспект своей фирмы, а когда капитан сойдет на берег, морской клерк должен уверенно направить его к большой, похожей на пещеру лавке. Там вы можете найти все, чтобы украсить судно и сделать его пригодным к плаванью, начиная с крюков для цепи и кончая листовым золотом для украшения кормы.
Торговец встречает капитана, которого никогда не видел, словно родного брата. Там вы найдете и прохладную гостиную с креслами, бутылками, сигарами, письменными принадлежностями и копией торговых правил, и радушный прием, который растапливает соль, за три месяца плавания накопившуюся в сердце моряка. Знакомство поддерживается благодаря ежедневным визитам морского клерка до тех пор, пока судно остается в порту. К капитану он относится как верный друг и внимательный сын, проявляет терпение Иова и беззаветную преданность женщины и держит себя как веселый и добрый малый. Счет посылается позже. Какое прекрасное и гуманное занятие! Вот почему хорошие морские клерки встречаются редко.
Если расторопный морской клерк вдобавок еще и знаком с морем, хозяин платит ему хорошие деньги и делает кой-какие поблажки. Джим получал всегда хорошее жалованье и пользовался такими поблажками, какие бы завоевали верность врага. И тем не менее с черной неблагодарностью он внезапно бросал службу и уезжал. Несостоятельность объяснений, какие он давал своим хозяевам, была очевидна. «Ну и болван», – говорили хозяева, как только он поворачивался к ним спиной. Таково было мнение об его утонченной чувствительности.
Для белых, живших на побережье, и для капитанов он был просто Джим. Имел он, конечно, и фамилию, но был заинтересован в том, чтобы ее не знали. Это инкогнито, продырявленное, как решето, имело целью скрывать не личность, а некий факт. Когда же об этом факте начинали говорить, Джим внезапно покидал порт, где в тот момент находился, и отправлялся в другой порт, обычно дальше на восток. Он держался морских портов, ибо был моряком в изгнании, – моряком, оторванным от моря, и отличался той сноровкой, какая пригодна лишь для морского клерка. В боевом порядке он отступал туда, где восходит солнце, а факт следовал за ним, получая огласку случайно, но неизбежно.
Годы шли, а о Джиме узнавали то в Бомбее, то в Калькутте, Рангуне, Пекине, Батавии, и в каждом из этих портов его узнавали просто как Джима, морского клерка. Впоследствии, когда острое сознание невыносимого своего положения окончательно оторвало его от морских портов и белых людей и увлекло в девственные леса, малайцы лесного поселка, где он скрылся, прибавили прозвище к односложному его имени. Они называли его туан Джим; лучше всего перевести это лорд Джим.
Родился он в пасторской семье. Маленькая церковь на холме виднелась, словно мшистая серая скала, сквозь рваную завесу листвы. Столетия стояла она здесь, но деревья вокруг помнят, должно быть, как был положен первый камень. Внизу, у подножья холма, мягко отсвечивал красный фасад пасторского дома, окруженного лужайками, цветочными клумбами и соснами; позади дома находится фруктовый сад, налево – мощеный скотный двор, а к кирпичной стене прилепилась покатая стеклянная крыша оранжереи. Здесь семья жила в течение нескольких поколений; но Джим был один из пяти сыновей, и когда, начитавшись во время каникул беллетристики, он обнаружил свое призвание моряка, его немедленно отправили на «учебное судно для офицеров торгового флота».
Там он познакомился с тригонометрией и искусством лазить по реям. Его любили. По навигации он занимал третье место и был гребцом на первом катере. Здоровый, не подверженный головокружениям, он ловко взбирался на верхушки мачт. Его пост был на формарсе, и с презрением человека, которому суждена полная опасности жизнь, часто смотрел он оттуда вниз на мирное полчище крыш, перерезанное надвое темными волнами потока; разбросанные по окраинам фабричные трубы вздымались перпендикулярно грязному небу, – трубы тонкие, как карандаш, и, как вулкан, изрыгающие дым. Он мог видеть, как там, внизу под ним отчаливали большие корабли, непрестанно двигались паромы и шныряли лодки, а вдали мерцал туманный блеск моря и надежда на волнующую жизнь в мире приключений.
На нижней палубе, под гул двухсот голосов, он забывался и в мечтах заранее переживал жизнь на море, о которой знал из книг: то он спасает людей с тонущих судов, то в ураган срубает мачты или с веревкой плывет по волнам, то, потерпев крушение, одиноко бродит босой и полуголый по рифам в поисках съедобных ракушек, которые бы отодвинули голодную смерть. Он сражается с дикарями в тропиках, усмиряет бунт, вспыхнувший во время бури, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживает мужество в отчаявшихся людях, всегда преданный своему долгу и непоколебимый, как герой из книжки.
Что-то случилось. Все сюда!
Он вскочил на ноги. Мальчики взбегали по трапам. Сверху доносились крики, топот, и, выбравшись из люка, ошеломленный, он застыл на месте.
Были сумерки зимнего дня. С полудня ветер стал свежеть, – движение на реке прекратилось, – и теперь он дул с силой урагана; его гул походил на залпы огромных орудий, бьющих через океан. Дождь был косой, ниспадала хлещущая сплошная завеса; изредка перед глазами Джима вставали набегающие волны, суденышко билось у берега, неподвижные строения вырисовывались в плавучем тумане, тяжело раскачивались паромы на якоре, задушенные брызгами. Следующий порыв ветра, казалось, все это смыл. Воздух словно состоял из одних брызг. Было в этом шторме злобное упорство, ярость и настойчивость в визге ветра, в смятении земли и неба. Эта ярость как будто была направлена против него, и в страхе он затаил дыхание.
Кто-то его толкал: «Спустить катер!» Мальчики пробежали мимо него. Каботажное судно, шедшее к пристани, врезалось в лежавшую на якоре шхуну, и один из инструкторов учебного судна видел, как это произошло. Мальчики вскарабкались на перила, окружили боканцы и кричали: «Авария! Как раз перед нами. Мистер Симонс видел!» Его отпихнули к бизань-мачте, и он уцепился за веревку.
Старое ошвартованное учебное судно дрожало всем корпусом, а снасти низким басом тянули песнь о днях его юности. «Ступайте!» Джим видел, как лодка быстро исчезла за бортом, и бросился к перилам. Слышен был плеск. «Отдать канаты!» Он перегнулся через перила. Вода у борта кипела и пенилась. В темноте виден был катер, отданный во власть ветра, и валы, которые на секунду пригвоздили его борт о борт с судном. Слабо донесся чей-то голос с катера: «Гребите сильней, если хотите кого-нибудь спасти! Гребите сильней!» И вдруг катер, подбросив высоко нос – весла были подняты, – перескочил через волну и разорвал цепи, в какие заковали его волны и ветер.
Кто-то схватил Джима за плечо.
– Опоздал, малыш!
Капитан учебного судна опустил руку на плечо мальчика, казалось собиравшегося прыгнуть за борт, и Джим, мучительного сознавая свое поражение, поднял на него глаза. Капитан сочувственно улыбнулся.
– В следующий раз тебе повезет. Это научит тебя сноровке.
Катер приветствовали громкими радостными криками, он вернулся наполовину залитый водой, танцуя на волнах, а на дне его копошились два измученных человека. Грозный гул моря и ветра казался Джиму не стоящим внимания, и тем острей сожалел он о том, что испугался их бессильной угрозы. Теперь он знал, чего стоит эта угроза, и думал, что шторм ему нипочем. Он не испугается и более серьезной опасности. Страх прошел бесследно, но тем не менее в тот вечер Джим мрачно держался в стороне, а носовой гребец катера, мальчик с девичьим лицом и большими серыми глазами, был героем палубы. Его обступили и с любопытством расспрашивали. Он рассказывал:
– Я увидел его голову на волнах и опустил багор в воду. Крючок зацепился за его штаны, а я чуть не свалился за борт, думал, что упаду, но тут старый Симонс выпустил румпель и ухватил меня за ноги, лодка едва не опрокинулась. Симонс – славный старик. Беда не велика, что он всегда ворчит. Пока держал меня за ногу, он все время ругался, но этим хотел только мне внушить, чтобы я не выпускал багор. Старик Симонс ужасно кипятится, правда. Нет, я поймал не того маленького белокурого, а другого, большого с бородой. Когда мы его вытащили, он простонал: «Ох, моя нога! Моя нога!» – и закатил глаза. Подумайте только, такой здоровый парень падает в обморок, словно девчонка. Разве мы с вами лишились бы чувств из-за какой-то царапины багром? Я бы не лишился! Крючок вонзился ему в ногу вот на такой кусок. – Он показал багор и вызвал сенсацию. – Крючок, конечно, вырвал кусок мяса, но штаны выдержали. Кровь так и хлестала.
Джим решил, что тщеславие – это суетно. Буря вызвала героизм столь же фальшивый, как фальшива была и самая угроза шквала. Он негодовал на дикое смятение земли и неба, заставшее его врасплох и задушившее готовность встретить опасность. Отчасти он был рад, что не попал на катер, ибо достиг большего, оставаясь на борту. Многое стало ему более понятным, чем тем, что участвовали в деле. Если бы все утратили мужество, он один сумеет встретить фальшивую угрозу ветра и волн – в этом он был уверен. Он знал, чего она стоит. Ему, беспристрастному зрителю, она казалась достойной презрения. Он сам не ощущал ни малейшего волнения, и происшествие закончилось тем, что Джим ликовал, отделившись незаметно от шумной толпы мальчиков; по-новому он убедился в своей жажде приключений и многогранном своем мужестве.
Глава II
После двух лет учения он ушел в плавание, и жизнь на море, которую он так ясно себе представлял, оказалась лишенной приключений. Он проделал много рейсов. Он познал магию монотонного существования между небом и землей; ему приходилось выносить попреки людей, взыскательность моря и прозаически суровый повседневный труд ради куска хлеба; единственной наградой за него являлась безграничная любовь к своему делу. Эта награда ускользнула от Джима. Однако вернуться он не мог, ибо нет ничего более пленительного, разочаровывающего и порабощающего, чем жизнь на море. Кроме того, у него были виды на будущее. Он был надежен, дисциплинирован и в совершенстве знал, чего требует от него долг; вскоре, совсем еще молодым, он был назначен первым помощником на прекрасное судно, не успев столкнуться с теми испытаниями моря, какие разоблачают, чего стоит человек, из какого теста он сделан и каков его нрав; эти испытания вскрывают силу сопротивляемости и подлинные мотивы его стремлений не только другим, но и ему самому.
Лишь однажды за все это время он снова мельком увидел подлинную ярость моря, а ярость эта проявляется не так часто, как принято думать.
На Джима упал брус, и он вышел из строя в самом начале той недели, о которой шотландец капитан впоследствии говорил: «Я считаю чудом, что судно уцелело!» Много дней Джим пролежал на спине, оглушенный, разбитый, измученный, словно обретался в бездне непокоя. Каков будет конец – его не интересовало, и в минуты просветления он переоценивал свое равнодушие. Опасность, когда ее не видишь, отличается несовершенством человеческой мысли. Страх становится глуше, а воображение, враг людей, ничем не подстрекаемое, тонет в тупой усталости.
Джим видел только свою каюту, приведенную в беспорядок качкой. Он лежал, словно замурованный; перед его глазами была картина опустошения в миниатюре; втайне он радовался, что ему не нужно идти на палубу. Но непобедимая тревога изредка зажимала в тиски его тело, заставляла задыхаться и корчиться под одеялом, и тогда тупая животная жажда жить, сопутствующая физическим мучениям, вызвала в нем отчаянное желание спастись какою бы то ни было ценой. Затем буря миновала, и он больше о ней не думал.
Однако он все еще хромал, и когда судно прибыло в один из восточных портов, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Поправлялся он медленно, и судно ушло без него. Кроме Джима, в палате для белых было всего лишь двое больных: комиссар[1] с канонерки, который сломал себе ногу, свалившись в люк, и железнодорожный агент из соседней провинции, пораженный какой-то таинственной тропической болезнью. Доктора он считал ослом и злоупотреблял патентованным лекарством, которое приносил ему тайком его неутомимый и преданный слуга из Томила. Больные рассказывали друг другу эпизоды из своей жизни, играли в карты или, не снимая пижам, валялись по целым дням в креслах, зевали и не обменивались ни единым словом. Госпиталь стоял на холме, и легкий ветерок, врываясь в раскрытые окна, приносил в пустую комнату мягкий аромат неба, томный запах земли, чарующее дыхание восточных морей. Эти запахи словно говорили о вечном отдыхе и нескончаемых грезах.
Ежедневно Джим глядел на изгороди садов, крыши города, кроны пальм, окаймляющих берег, и дальше, туда на этот рейд – путь на Восток, глядел на рейд, украшенный гирляндами островов, залитый радостным солнечным светом, на корабли, маленькие, словно игрушечные, на суету сверкающего рейда. Суета эта напоминала языческий праздник, а вечно ясное восточное небо и улыбающееся спокойное море тянулись вдаль и вширь до самого горизонта.
Как только Джим стал ходить без палки, он отправился в город разузнать о возможности вернуться на родину. Оказии все не было, и, выжидая, он, разумеется, сошелся в порту с товарищами по профессии. Они делились на две категории. Одни – их было очень мало, и в порту их видели редко – жили жизнью таинственной; то были люди с неугасимой энергией, темпераментом корсаров и взглядом мечтателей. Казалось, они блуждали в лабиринте безумных планов, надежд, опасностей, предприятий, в стороне от цивилизации, в неведомых уголках моря; в их существовании смерть была единственным событием, казавшимся разумно завершенным. Большинство же состояло из людей, которые, попав сюда, подобно самому Джиму, случайно стали офицерами на местных судах. Теперь они с ужасом смотрели на службу в родном флоте, где дисциплина была строже, долг – священнее, а суда обречены на штормы. Они полюбили вечный покой восточного неба и моря. Полюбили короткие рейсы, удобные кресла на палубе, многочисленную туземную команду и преимущество быть белыми. Их пугала мысль о тяжелой работе, и, полагаясь на милость других, они жили беззаботно, получая то отставку, то новое назначение.
Постоянно толковали они о случайных удачах: такой-то назначен командиром судна, плававшего у берегов Китая, – легкая работа; другому досталась прекрасное место где-то в Японии, а третий преуспевает в сиамском флоте. На всем, что бы они ни говорили, на всех их взглядах, манерах, поступках было пятно – знак гниения, решимость пройти свой путь в спокойствии и безопасности.
Джиму эта толпа болтливых моряков казалась сначала такой же нереальной, как тени. Но в конце концов он начал находить очарование в этих людях, видимо, преуспевающих, на чью долю выпадало так мало опасностей и труда. И презрение мало-помалу сменялось иным чувством. Внезапно, отказавшись от мысли вернуться на родину, он занял место первого помощника на «Патне».
«Патна» была местным старым пароходом, тощим, как борзая собака, и изъеденным ржавчиной. Владельцем ее был китаец, фрахтовщиком – араб, а капитаном – немец из Нового Южного Валлиса, который на людях неустанно проклинал свою родину, но, видимо, подражая Бисмарку, тиранил всех, кого не боялся. Он разгуливал с видом свирепым и непоколебимым, да в придачу имел рыжие усы и багровый нос. После того, как «Патну» окрасили снаружи и побелили внутри, около восьмисот паломников были пригнаны на борт судна, разведшего пары у деревянного мола.
По трем сходням поднимались они на борт, подстрекаемые верой и надеждой на рай, поднимались, не обмениваясь ни одним словом, не озираясь назад; отойдя от перил, растеклись по всей палубе, спустились в зияющие люки, заполнили все уголки судна, как вода, наполняющая цистерну, как вода, поднимающаяся к краям сосуда. Восемьсот мужчин и женщин – каждый со своими надеждами, привычками, воспоминаниями – пришли сюда с севера, юга, с дальнего востока. Они пробирались по тропинкам в джунглях, спускались по течению рек, плыли в прау вдоль песчаных кос, переплывали в маленьких каноэ с острова на остров, страдали, испытывали неведомый доселе страх.
Все они шли к одной цели. Они пришли из одиноких хижин в джунглях, из многолюдных поселков, из приморских деревень. Бросили они свои леса, свое имущество и свою нищету, друзей юности и могилы отцов. Пришли, покрытые пылью и потом, в грязи, в лохмотьях, сильные мужчины во главе своих семей, тощие старики, идущие вперед, не надеясь на возвращение, пришли юноши с бесстрастными глазами, пугливые девочки со спутанными длинными волосами, робкие женщины, закутанные в покрывала и прижимающие к груди младенцев, обернутых в концы грязных головных покрывал, – спящих младенцев, бессознательных паломников взыскательной веры.
– Поглядите на них, – сказал немец шкипер новому своему помощнику.
Араб, глава этих благочестивых странников, явился последним. На борт он поднялся медленно, красивый, серьезный, в белом одеянии и большом тюрбане. За ним вереницей следовали слуги, тащившие его багаж. «Патна» отчалила от мола.
Проскользнув между двумя островками, она пересекла стоянку парусных судов, прорезала полукруг в тени, отброшенный камнем, потом близко подошла к покрытым пеной рифам. Стоя на корме, араб вслух читал молитву плавающих и путешествующих. Он призывал милость Всевышнего на это путешествие, молил благословить подвиг людей и тайные их стремления. В сумерках пароход рассек тихие воды пролива, а далеко за кормой паломнического судна маяк, поставленный неверными на предательской мели, казалось, подмигивал огненным глазом, словно насмехался над благочестивым паломничеством.
«Патна» вышла из проливов, пересекла залив и продолжала путь проливом «Один градус». Она направлялась к Красному морю под ясным, палящим и безоблачным небом, окутанным в блеск солнечного сияния, которое убивает мысли, иссушает всякую энергию и силу. А под зловещим сверканием неба синее и глубокое море оставалось неподвижным, – даже рябь не морщила его поверхности, – море липкое, стоячее, мертвое. «Патна» с легким шипением неслась по этой равнине, лучезарной и гладкой, развернула по небу черную ленту дыма, распустила за собой по воде белую ленту пены, которая тотчас же исчезала, словно призрачный след, начертанный на безжизненном море призрачным пароходом.
Каждое утро солнце поднималось, молчаливо извергая свет, всегда на одном и том же расстоянии от кормы судна, нагоняло его в полдень, изливая сгущенный огонь своих лучей на благочестивые стремления путников, затем уходило дальше на запад и таинственно погружалось в море каждый вечер на одном и том же расстоянии от носа «Патны». Пять белых на борту жили на середине судна, изолированные от человеческого груза. Над палубой с носа до кормы раскинулся белым сводом тент, и только слабое жужжание – тихий шепот грустных голосов – обнаруживало присутствие людей на ослепительной глади океана. Так сменялись дни, безмолвные, горячие, тяжелые, исчезая один за другим в прошлом, словно проваливаясь в пропасть, вечно зияющую в кильватере судна, а «Патна» упорно шла вперед, черная и дымящаяся, в лучезарном пространстве, словно опаленная пламенем; без сожаления это пламя лизало ее с неба. Ночи спускались на нее как благословение.
Глава III
Чудесная тишина объяла мир. Звезды, казалось, посылали на землю заверение в вечной безопасности. Молодой месяц, изогнутый, сверкающий низко на западе, походил на тонкую стружку, отделившуюся от золотого слитка. Аравийское море, ровное и казавшееся холодным, словно ледяная гладь, простиралось до темного горизонта. Винт вертелся непрестанно, как будто удары его являлись частью плана какой-то надежной вселенной, а по обе стороны «Патны» две глубокие складки воды протянулись, неподвижные, на мерцающей глади; между этими прямыми, расходящимися морщинами виднелось несколько белых завитков вскипающей пены, легкая рябь, зыбь и маленькие волны. Эти волны, оставшись позади, за кормой, секунду-другую шевелили поверхность моря, потом с мягким плеском успокаивались, объятые тишиной воды и неба, а черное пятно – движущееся судно – по-прежнему оставалось в самом центре тишины.