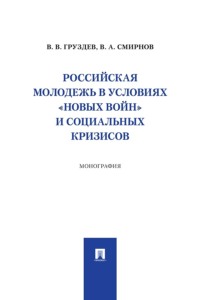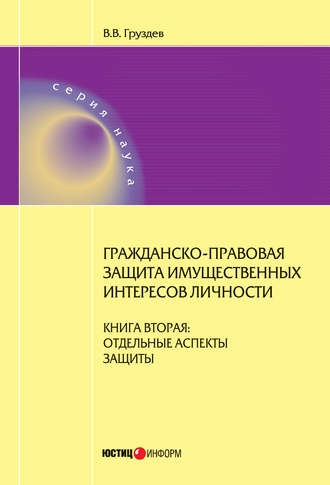
Полная версия
Гражданско-правовая защита имущественных интересов личности. Книга 2. Отдельные аспекты защиты
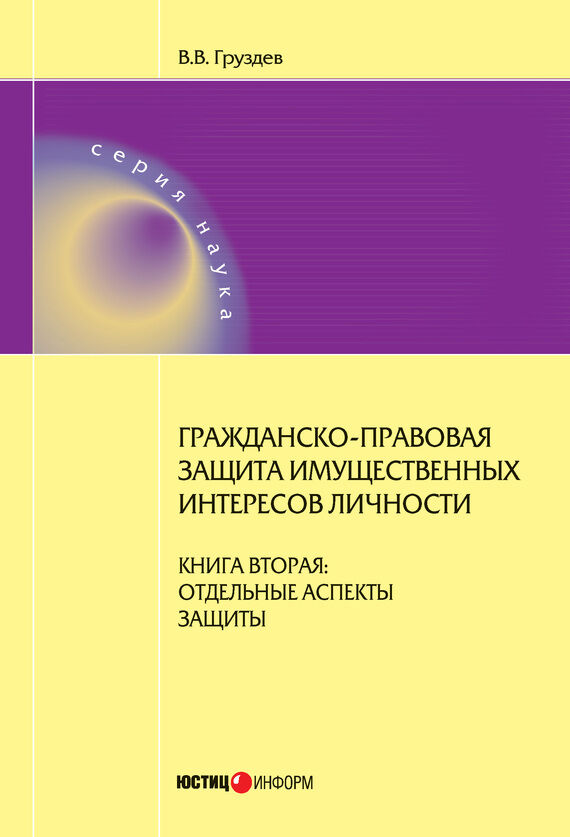
Владислав Викторович Груздев
Гражданско-правовая защита имущественных интересов личности. Книга вторая: отдельные аспекты защиты
Предисловие
Настоящая книга является продолжением исследования автором феномена гражданско-правовой защиты как деятельности управомоченного (заинтересованного) участника имущественного оборота по реализации принадлежащей ему защитительной возможности – охранительного субъективного права или охранительного правомочия, входящего в состав нарушенного или оспоренного регулятивного права.
В монографии «Гражданско-правовая защита имущественных интересов личности. Книга первая: общие положения» (М.: Юстицинформ, 2012) были подвергнуты анализу проблемы гражданско-правовой защиты, имеющие для ее целостного изучения «сквозное» значение. Теперь, по логике юридического мышления, необходимо освещение отдельных аспектов защитительной деятельности, что и сделано в настоящем издании. При этом выбраны наиболее актуальные в теоретическом и практическом отношении вопросы. Иными словами, если книга первая есть общая часть теории гражданско-правовой защиты, то предлагаемая читателю книга – особенная часть данной теории.
Исходя из структуры предыдущего изложения, книга вторая открывается главой, посвященной особенностям гражданско-правовой защиты в охранительном правоотношении. Затем анализируются особенности гражданско-правовой защиты в регулятивном правоотношении. Завершается исследование освещением основных цивилистических проблем юрисдикционной формы гражданско-правовой защиты.
Нормативный материал учтен по состоянию на 1 октября 2013 г. Вместе с тем осмысливаются предложения, относящиеся к еще предстоящим этапам реформы гражданского законодательства.
Глава 1
Особенности гражданско-правовой защиты в охранительном правоотношении
1.1. Система охранительных правоотношений
В цивилистической литературе справедливо подчеркивается чрезвычайное разнообразие защитительных возможностей, предоставляемых обладателю нарушенного (оспоренного) права (охраняемого законом интереса)[1]. При этом, как указывалось в параграфе 4.1 книги первой, гражданско-правовая защита может осуществляться в рамках либо регулятивного правоотношения, либо охранительного обязательства. Вместе с тем по смыслу ст. 12 ГК меры гражданско-правовой защиты предусматриваются законом, т. е. определяются по принципу замкнутого перечня, который не может дополняться по произвольному усмотрению участников оборота. Перед научным исследованием встают важные задачи: 1) показать отличительные особенности гражданско-правовой защиты в регулятивном и охранительном правоотношениях; 2) систематизировать многочисленные возможности, реализация которых составляет содержание каждой из упомянутых разновидностей гражданско-правовой защиты; 3) раскрыть существо отдельных защитительных возможностей, а также проанализировать основные проблемы их практической реализации. Данные задачи решаются в настоящей и последующей главах настоящей книги.
Гражданско-правовая защита в охранительном правоотношении осуществляется посредством реализации управомоченным (заинтересованным) лицом охранительного субъективного права, входящего в содержание данного правоотношения. В этом случае защита выражается в исполнении охранительного правоотношения (или, что то же самое, охранительного обязательства). Вполне логично поэтому, что особенности такой защиты всецело определяются спецификой соответствующего правоотношения, которая подвергнута исследованию в главе 5 книги первой.
Действующим законодательством к числу обязательств прямо отнесены охранительные правоотношения из нарушения другого правоотношения, из причинения вреда, из неосновательного обогащения (кондикционные обязательства)[2]. Гражданско-правовая наука и судебная практика дополняет этот перечень обеспечительными, виндикационными, негаторными, реституционными правоотношениями[3].
Под классификацией как теоретическим приемом понимается процесс разделения изучаемого явления на виды с использованием строго определенного критерия. Что касается систематизации, то ею принято считать процедуру упорядочения различных видов явления на основе существующих между ними связей.
Как видно, классификация и систематизация являются взаимодополняющими друг друга научными методами. Систематизация, направленная на сведение воедино предварительно расчлененных по различным признакам видов явления, не исключает, а, напротив того, как правило, предполагает определенную комбинацию проведенных по нескольким критериям классификаций данного явления.
Следовательно, в процессе систематизации многочисленных защитительных возможностей, принадлежащих обладателю нарушенного (оспоренного) субъективного гражданского права (охраняемого законом интереса), вполне допустимо использование нескольких классификационных групп.
Отталкиваясь от основных классификаций охранительного обязательства, подробно исследованных в параграфе 5.5 книги первой, возможно построить следующую систему рассматриваемых правоотношений:
1. Эквивалентные охранительные обязательства. К их числу относятся реституционное и кондикционное обязательства, порождаемые нарушением регулятивного права или охраняемого законом интереса в сохранении регулятивного права, которое было утрачено в результате такого нарушения.
Реституционное обязательство возникает при поступлении имущества потерпевшего к другому лицу вследствие исполнения недействительной сделки, условиями которой определяется содержание специального гражданско-правового отношения. В отличие от этого кондикционное обязательство порождается приобретением имущества одним лицом за счет другого, в основании которого (приобретения) какое-либо правоотношение отсутствует.
И реституционное, и кондикционное обязательство может быть: определенным (если оно порождается приобретением денег) или определимым (если оно порождается приобретением имущества иного, нежели деньги); натуральным (натуральная реституция – при возврате полученного по сделке в натуре; натуральная кондикция – при возврате неосновательного обогащения в натуре) или денежно-стоимостным (компенсационная реституция – при денежном возмещении стоимости полученного; компенсационная кондикция – при денежном возмещении стоимости неосновательного обогащения).
Натуральные реституционное и кондикционное обязательства направлены на возврат полученного в натуре (имеют место и в случае, когда нарушителем были получены денежные средства потерпевшего как вещи, определяемые родовыми признаками). Компенсационные реституционное и кондикционное обязательства направлены на возврат стоимости полученного в деньгах (при отсутствии возможности натурального восстановления нарушенного имущественного положения).
В юридической литературе натуральную реституцию зачастую сводят к реституции владения переданной по сделке и сохранившейся в натуре индивидуально-определенной вещью[4].
Приведенная точка зрения необоснованно сужает действительное содержание соответствующей правовой нормы. Ведь в гражданском праве действует начало, в соответствии с которым восстановление имущественного положения потерпевшего осуществляется в натуре; предоставление денежного эквивалента утраченного допускается в случае невозможности натурального восстановления. Поэтому возврат переданного по недействительной сделке должен производиться в натуре, пока существует соответствующая возможность, независимо от того, сохранились ли у обязанного лица полученные по сделке вещи, или у него имеются аналогичные вещи (вещи того же рода и качества). Отсюда видно, что реституция владения является всего лишь частным случаем натуральной реституции, который имеет место при возврате переданных по недействительной сделке индивидуально-определенных вещей.
Реституционное и кондикционное обязательства с множественностью лиц (независимо от ее разновидности) являются строго долевыми, т. е. не могут быть солидарными или субсидиарными, поскольку это не предусмотрено законом. Если же возникновение солидарности или субсидиарности определяется сторонами соответствующего обязательства, последнее в силу п. 1 ст. 414 ГК РФ оказывается новированным в договорное правоотношение, предусматривающее иной способ исполнения. Кроме того, исключается существование регрессных эквивалентных охранительных обязательств.
2. Внеэквивалентные охранительные обязательства. Ими являются: обязательство по возмещению убытков (денежное деликтное обязательство, обязательство компенсации морального вреда, вреда от процессуальной волокиты); обязательство натурального возмещения; обязательство по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
Среди внеэквивалентных обязательств определенным является обязательство по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, определимыми – обязательство по возмещению убытков и обязательство натурального возмещения.
Внеэквивалентные охранительные обязательства могут возникать из нарушения не только регулятивного права, но и охранительного, выступая в последнем случае субохранительной юридической связью (например, так называемые «сложные проценты», обязательство по возмещению убытков, вызванных последующим изменением стоимости неосновательно полученного или сбереженного имущества).
Натуральным внеэквивалентным охранительным правоотношением является обязательство натурального возмещения. Остальные внеэквивалентные охранительные правоотношения представляют собой денежно-стоимостные (компенсационные) охранительные обязательства.
Все внеэквивалентные охранительные правоотношения могут иметь активную, пассивную или смешанную множественность лиц, выступая при этом долевыми, солидарными или субсидиарными обязательствами, что в каждом конкретном случае определяется постановлениями положительного права или условиями договора.
Кроме того, обязательство по возмещению убытков является регрессным, если оно порождается нарушением регрессатом права регредиента, а именно умалением имущества последнего вследствие исполнения в пользу третьего лица (потерпевшего от действий регрессата) охранительной обязанности.
1.2. Эквивалентные охранительные обязательства
Эквивалентные охранительные обязательства строятся по принципу «верни чужое». Возлагаемое на нарушителя обременение в виде необходимости передачи потерпевшему имущественной ценности эквивалентно тому имущественному приобретению за счет потерпевшего, которое явилось следствием нарушения. При этом речь идет о положительной обязанности, качественно отличающейся от нарушенной регулятивной негативной обязанности воздерживаться от действий, которые нарушают чужое имущественное право, пользующееся абсолютной защитой.
1.2.1. Реституционное обязательство
В современной цивилистике, исходя из положений п. 2 ст. 167 ГК РФ, под реституцией принято понимать возврат полученного по недействительной сделке[5]. В то же время по вопросу о месте реституции в системе гражданско-правовых явлений сложилось два противоположных мнения: одни авторы полагают, что она реализуется в рамках самостоятельного правоотношения[6], другие в той или иной мере отрицают это[7].
По мнению автора, реституционное правоотношение обнаруживает четкое нормативное своеобразие, юридическую необходимость самостоятельного существования.
Приобретение (сбережение) имущества по недействительной сделке, как факт реальной действительности, имеет следующие отличительные особенности: 1) является результатом любого имущественного предоставления, а не только передачи индивидуально-определенной вещи; 2) предполагает эквивалентное встречное предоставление (если речь идет о возмездной недействительной сделке); 3) выступает следствием, как правило, добровольных действий самого потерпевшего; 4) производится на согласованных условиях, составляющих содержание сделки.
Нетрудно заметить, что использование в целях восстановления имущественного положения лица, исполнившего недействительную сделку, таких способов защиты гражданских прав, как истребование имущества из чужого незаконного владения, возврат неосновательного обогащения и возмещение внедоговорного вреда, крайне затруднительно.
Во-первых, исполнение недействительной сделки может выражаться в выполнении работы или оказании услуги, что полностью исключает возможность истребования исполненного посредством виндикационного иска, всегда направленного на возврат индивидуально-определенной вещи.
Во-вторых, вследствие исполнения возмездной недействительной сделки происходит взаимный обмен имущественными ценностями, которые предполагаются равными по стоимости (эквивалентными). Поэтому в соответствующих случаях обогащение на стороне одного из контрагентов за счет другого не образуется. Так, в абз. 3 п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» (далее – постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 2010 г. № 13/14) указывается, что при применении последствий недействительности сделки, когда одна из сторон получила по сделке денежные средства, а другая – товары, работы или услуги, следует исходить из равного размера взаимных обязательств сторон; при этом нормы о неосновательном денежном обогащении могут быть применены к отношениям сторон лишь при наличии доказательств, подтверждающих, что полученная одной из сторон денежная сумма явно превышает стоимость переданного другой стороне, то есть когда действительно имеет место обогащение.
В-третьих, невозможность возврата полученного по недействительной сделке в натуре может явиться следствием обстоятельств, не зависящих от действий стороны, обязанной возвратить полученное (в том числе когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге), причем наступлению такой невозможности зачастую способствует поведение самого потерпевшего, исполнившего сделку. В этих условиях восстановить нарушенный имущественный интерес с помощью конструкции деликтного обязательства, возникающего по общему правилу при наличии вины причинителя вреда, весьма проблематично.
Наконец, и в тех случаях, когда по недействительной сделке передана сохраняющаяся в натуре вещь, когда исполнение недействительной сделки привело к обогащению (в безвозмездных договорах и в возмездных договорах, исполненных только одной стороной) или когда невозможность возврата полученного наступила вследствие виновных действий стороны, обязанной возвратить имущество, модели соответственно виндикационной, кондикционной или деликтной защиты также не пригодны в целях восстановления нарушенного интереса. Дело в том, что для приведения участника оборота в положение, в котором он находился до исполнения недействительной сделки, необходимо предварительно установить, в чем именно выражаются недействительность сделки и само исполнение. А это возможно сделать, только исследовав условия недействительной сделки, на которых произведено исполнение. Словом, реституционная обязанность всегда определяется содержанием исполненной недействительной сделки.
Отменяя состоявшиеся по делу о признании недействительным договора и применении последствий его недействительности судебные акты, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем постановлении отметил, что не определена правовая природа договора и действительная воля сторон, то есть не установлено, на достижение какого результата направлена сделка, без чего невозможно решить, в чем заключается возврат сторон в первоначальное положение[8].
Таким образом, для устранения неблагоприятных последствий принятия исполнения по недействительной сделке требуется особая юридическая конструкция, которая бы в полной мере учитывала безусловное качественное своеобразие данного обстоятельства объективной реальности. Такой конструкцией и выступает реституционное правоотношение, направленное на максимальное аннулирование тех имущественных изменений, которые наступили у участников гражданского оборота вследствие исполнения ими недействительной сделки. В случае с реституцией нарушение субъективного права, как основание гражданско-правовой защиты, заключается в поступлении имущества одной стороны в распорядительную сферу другой стороны в связи с исполнением специального правоотношения, порожденного недействительной сделкой (как оспоримой[9], так и ничтожной). Этого не наблюдается в случае с кондикционным обязательством, где нарушение субъективного права выражается в переходе имущества к приобретателю вне рамок какого-либо правоотношения (например, вследствие предоставления исполнения по незаключенному договору, который в отличие от недействительной сделки есть всегда юридическое «ничто»).
В зависимости от особенностей предмета реституционного обязательства следует выделять две его разновидности, нашедшие закрепление в п. 2 ст. 167 ГК РФ, – обязательство натуральной реституции, направленное на возврат полученного в натуре (имеет место и тогда, когда исполнение выражалось в передаче денежных средств), и обязательство денежно-эквивалентной (или компенсационной) реституции, направленное на возврат стоимости полученного (при отсутствии возможности натуральной реституции[10]).
Будучи охранительным правоотношением, реституционное обязательство относительно, а его субъектами могут быть только стороны недействительной сделки[11]. В связи с этим возникает вопрос, подлежит ли возврату переданное по недействительной сделке имущество стороне, которая не имеет на него никакого права?
Одна группа авторов полагает, что при реституции имущество возвращается сторонам недействительной сделки только потому, что сделка является недействительной, то есть независимо от наличия у сторон на это имущество каких-либо прав[12]. Данный подход закреплен в п. 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения», где сказано, что в соответствии со ст. 12, 167 ГК РФ применение последствий недействительности сделки является самостоятельным способом защиты гражданских прав; в рамках этого спора право истца на имущество исследованию не подлежит, однако удовлетворение такого иска не предрешает исход возможного спора о принадлежности имущества.
Высказана и точка зрения о невозможности реституции в случаях отсутствия у лица титула владения или охраняемого законом интереса в восстановлении владения вещью[13].
На легальном уровне данная проблема нашла отражение в нормах п. 2 и п. 3 ст. 166, п. 4 ст. 167 ГК РФ. По смыслу данных правовых норм требование о применении последствий недействительности сделки (как ничтожной, так и оспоримой) вправе предъявить ее стороны и указанные в законе лица; однако суд вправе не применять последствия недействительности сделки, если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.
Предоставление исполнения – передача имущественной ценности, с которой связывался юридический интерес должника, включая интерес, реализованный в субъективном праве. Стороны недействительной сделки вправе осуществлять реституционную защиту постольку, поскольку предоставляют исполнение, изменяющее их имущественное положение, охраняемое законом. Соответственно применительно к сторонам недействительной сделки действует презумпция о том, что они являются носителями нарушенных прав или законных интересов, поскольку предоставили исполнение по такой сделке. Однако если имеющиеся в деле доказательства опровергают указанную презумпцию, в частности когда сделка недействительна именно потому, что лицо распорядилось чужой вещью, не находясь по поводу нее с собственником в какой-либо регулятивной связи (например, приговором суда по уголовному делу установлено, что осужденным как продавцом сбыто краденое имущество), реституционный иск стороны, не предоставлявшей исполнение в юридическом смысле, не может быть удовлетворен; не подлежит ей возврату имущество и при применении реституции по иску другой стороны, поскольку иное противоречило бы основам правопорядка. В подобных случаях лицо, получившее имущество по недействительной сделке, обязано при наличии предусмотренных ст. 302 ГК РФ оснований возвратить имущество собственнику или управомоченному им лицу, но не другой стороне сделки. Говоря иначе, имеет место одно реституционное обязательство, но не односторонняя реституция, предполагающая применение штрафной санкции к недобросовестному участнику недействительной сделки[14].
В современной российской цивилистике предпринята попытка обосновать действительность продажи чужой вещи[15]. При этом нередко обращаются к категориям гражданского права, предназначенным для решения совершенно иных задач.
«Если бы обязательственный договор в случае неуправомоченности отчуждателя был недействительным, – пишет Д.О. Тузов, – то не существовало бы и норм об ответственности за эвикцию (ст. 461, 462 ГК), ибо эта ответственность является договорной и наступает за ненадлежащее исполнение договора; при недействительности же сделки никакой ответственности за ее неисполнение или ненадлежащее исполнение быть не может, так как нет самой обязанности эту сделку исполнить»[16].
В результате вовлечения в «чуждую орбиту» понятие ответственности за эвикцию получает неожиданную интерпретацию, неизбежно утрачивая свое истинное назначение.
Так, К.И. Скловский подчеркивает: «Ответственность за эвикцию… возникает не потому, что действительна продажа чужого, а потому, что вводится разъединение ответственности за эвикцию и договора купли-продажи: одна сделка (по установлению ответственности на случай эвикции) независима от другой… Ответственность за эвикцию в известном смысле сближается с гарантией, действие которой не увязано с виной»[17].
О.Г. Ломидзе указывает даже, что «положения ст. 461 ГК РФ носят дисциплинирующий характер и сопрягают возникновение обязанности неуправомоченного отчуждателя возместить несостоявшемуся покупателю понесенные им убытки с самим фактом изъятия товара у покупателя третьим лицом безотносительно к действительности сделки»[18].
Удивительно, что, рассуждая подобным образом, авторы не обращают никакого внимания на буквальную формулировку п. 1 ст. 461 ГК РФ, трактующую эвикцию как изъятие товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи.
Из указанной формулировки вполне определенно следует недопустимость существования правоотношения по договору купли-продажи чужого товара, которое, действительно, никак не вписывается в рамки российского правопорядка. Иначе разумный законодатель указал бы на возникновение оснований для эвикции до заключения договора. В то же время ответственность за эвикцию не может быть внедоговорной, ибо она наступает у продавца перед покупателем, т. е. исключительно в отношениях между договорными контрагентами.
Отмеченное противоречие легко снимается, если эвикцию понимать как изъятие (отсуждение) товара у покупателя третьим лицом по основаниям, возникшим в период после заключения договора купли-продажи и до его исполнения продавцом. Имеются в виду разнообразные ситуации, когда в указанный период времени право собственности на товар или право производного владения товаром предоставляется продавцом третьему лицу (например, по договору купли-продажи недвижимости, по которому произведена государственная регистрация перехода права собственности за другим покупателем, по договору аренды и т. п.). Именно в подобных ситуациях отчуждения своего, а не чужого имущества продавец нарушает правомерно заключенный ранее договор купли-продажи, причиняя первому покупателю убытки. Возмещение таких убытков и составляет сущность договорной ответственности за эвикцию. Объем понятия эвикции, таким образом, зависит от того, допускается ли правопорядком продажа чужого[19].
Факт совершения недействительной сделки, принятие исполнения по которой приведет к нарушению права или охраняемого законом интереса определенного лица, является оспариванием этих права или охраняемого законом интереса. Поэтому данный факт сам по себе влечет появление у такого лица охранительного правомочия требовать признания сделки недействительной, что соответствует смыслу абз. 3 п. 2 и абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ.
А вот исполнение недействительной сделки, как правило, приводит к изменению имущественной сферы исполнившего сделку лица, затрагивая, таким образом, его право на переданную ценность или связанный с сохранением ценности интерес. Следовательно, принимая исполнение, сторона недействительной сделки нарушает обязанность, противостоящую праву (включая право на уважение имущественных интересов) другой стороны.