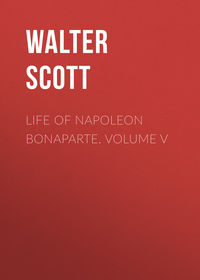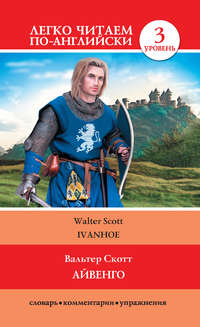полная версия
полная версияКвентин Дорвард
– Я верю тебе, юноша, – сказал граф. – Ты не в том возрасте и не такая у тебя натура, чтобы тебе можно было поручить подобное кровавое дело, хоть ты и достаточно навострился по части охраны дам… Но бедный, бедный благородный епископ! Убит в своем собственном мирном жилище, где он так часто принимал странников с истинно христианским милосердием и княжеской щедростью! Убит чудовищем, кровожадным злодеем, не побоявшимся осквернить дом, где он вырос, не побоявшимся обагрить руки кровью своего благодетеля! Но или я не знаю Карла Бургундского, или его месть не замедлит разразиться так же неумолимо и жестоко, как жестоко и бесчеловечно было само преступление. Нет, я не хочу сомневаться в правосудии божьем! Если же убийца не будет наказан… – Тут граф выхватил меч, ударил себя в грудь обеими руками в железных рукавицах с такой силой, что зазвенела кольчуга, потом поднял их к небу и торжественно продолжал: – …Тогда я, Филипп Кревкер де Корде, даю клятву милосердному богу, святому Ламберту и Трем Кельнским Царям, что у меня не будет других помыслов, кроме мщения за смерть благородного Людовика де Бурбона! Я отомщу его убийцам, где бы я их ни нашел – в лесу или в поле, в городе или в селении, в горах или в долине, при королевском дворе или в храме господнем! Обрекаю на это все мое достояние, мои земли и замки, друзей и вассалов, мою жизнь и честь! И да помогут мне бог, святой Ламберт Льежский и Трое Кельнских Царей!
Облегчив свою душу этой клятвой, граф де Кревкер мало-помалу опомнился от изумления и ужаса, в который привел его страшный рассказ о трагедии, разыгравшейся в Шонвальде, и принялся расспрашивать Квентина о подробностях ужасного злодеяния, которые Дорвард, не имевший ни малейшего желания выгораживать де ла Марка, передал графу с полной откровенностью.
– Но эти слепцы, эти непостоянные, вероломные твари, эти льежцы, – в бешенстве воскликнул Кревкер, – как они могли, как решились вступить в союз с таким беспощадным разбойником и убийцей! Как они осмелились умертвить своего законного государя!
Здесь Дорвард поспешил сообщить разгневанному бургундцу, что жители Льежа, или по крайней мере лучшие из них, хоть и возмутились против своего епископа, но не имели, по-видимому, намерения содействовать гнусному замыслу де ла Марка; что, напротив, если бы это было в их власти, они бы никогда не допустили этого убийства и были поражены ужасом, когда оно совершилось.
– Не говори ты мне об этом лживом, подлом сброде! – воскликнул Кревкер. – Когда они восстали против государя, единственный недостаток которого заключался в том, что он был слишком добрым господином для этих неблагодарных рабов, когда с оружием в руках они ворвались в его мирный дом, что они могли замышлять, если не убийство? Когда они вступили в союз с Диким Арденнским Вепрем, известнейшим злодеем во всей Фландрии, что другое могли они иметь в виду, кроме убийства, которое он сделал своим ремеслом? И наконец, не сам ли ты сказал, что убийство совершено рукою одного из этих мерзавцев?.. Нет, я еще надеюсь увидеть при свете их собственных пылающих домов каналы их города, переполненные кровью!.. Убить – и кого же? Такого доброго, такого великодушного, благородного человека! Другие ленники бунтуют от бедности, из-за тяжелых налогов, а эти наглецы просто бесятся с жиру!
И граф снова отпустил поводья своего коня и в отчаянии заломил руки в стальных, негнущихся рукавицах. Квентин понимал, что горе Кревкера еще усиливалось благодаря его старой дружбе с епископом, и потому молчал, уважая его скорбь, которую боялся растравить каким-нибудь неуместным замечанием, а смягчить все равно был не в силах.
Но граф вновь и вновь возвращался к этой тягостной теме, засыпая Квентина вопросами о смерти епископа и взятии Шонвальда; вдруг, словно что-то припомнив, он спросил, что сталось с графиней Амелиной и почему ее нет с племянницей.
– Я спрашиваю о ней не потому, – добавил граф с презрением, – что считал бы ее отсутствие большой потерей для графини Изабеллы, ибо хоть она ей и тетка и, в сущности, добрая женщина, но нигде, никогда, я думаю, не сыскать такой сумасбродной дуры! Я убежден, что ее племянница, которую я считал всегда скромной и порядочной девушкой, никогда не решилась бы на этот дурацкий побег из Бургундии во Францию, если бы не ее взбалмошная, безмозглая старая тетка, которая только и думает, как бы ей кого-нибудь сосватать или самой выскочить замуж!
Какая возмутительная речь для слуха влюбленного! Бедный юноша! Быть принужденным выслушивать подобные вещи, сознавая, как смешна и бесполезна была бы всякая попытка с его стороны убедить графа, хотя бы с оружием в руках, что он совершает преступление, говоря о графине Изабелле, об этой жемчужине ума и красоты, только как о скромной, порядочной девушке. Подобные качества можно найти и у какой-нибудь загорелой крестьянки, погоняющей на пашне волов своего отца! И как только осмелился граф допустить, будто она могла поддаться влиянию своей сумасбродной, взбалмошной тетки! Нет, такая клевета не должна пройти ему безнаказанно! Но открытое, хотя и строгое лицо де Кревкера и явное презрение его к тем чувствам, которые наполняли сердце молодого человека, заставили Квентина сдержаться; не потому, что он испугался военной славы графа – напротив, эта слава могла бы только возбудить в нем желание помериться с ним силами, – но из боязни показаться смешным, ибо насмешка – самое страшное оружие для всех энтузиастов, оружие, которое не только удерживает их от многих нелепостей, но подчас душит даже и благородные порывы.
Под влиянием этого страха вызвать не гнев, а насмешку Квентин, хотя и с горечью в сердце, отвечая графу, ограничился довольно бессвязным рассказом о бегстве леди Амелины из Шонвальда в самом начале осады. Впрочем, он и не мог рассказать об этом событии более обстоятельно, не выставив в смешном виде близкую родственницу Изабеллы, а может быть, и себя самого в качестве предмета ее запоздалых надежд. В заключение своей запутанной речи он рассказал о дошедшем до него слухе, будто бы графиня Амелина попала в руки Гийома де ла Марка.
– Надеюсь, что святой Ламберт внушит ему мысль жениться на ней, – сказал Кревкер, – и, кажется, он вполне на это способен ради ее мешков с деньгами, точно так же как способен перерезать ей горло, когда он ими завладеет или когда содержимое их истощится.
Затем граф принялся выпытывать у Квентина подробности путешествия двух дам: он расспрашивал, как они себя держали в дороге, где останавливались, кто их сопровождал, в каких отношениях они были с ним самим во время пути и так далее, так что, отвечая на эти щекотливые вопросы, оскорбленный и раздосадованный юноша не мог скрыть своего смущения от опытного воина и придворного, который резко оборвал свой допрос и отъехал от Квентина, заметив на прощанье:
– Гм, да… так оно и есть, как я думал, во всяком случае с одной стороны. Надеюсь, что хоть та, другая, не потеряла рассудка… Позвольте вас просить пришпорить коня, господин стрелок, и выехать вперед, пока я переговорю с графиней Изабеллой. Кажется, я узнал от вас достаточно, чтобы беседовать с ней обо всех этих прискорбных обстоятельствах, не тревожа ее деликатности, хотя, быть может, мне и пришлось слегка задеть ваши чувства… Еще минуту, молодой человек… одно слово, прежде чем мы расстанемся. Мне кажется, вы совершили весьма счастливое путешествие по волшебной стране грез, полное героических приключений, розовых надежд и несбыточных мечтаний, вроде путешествия по заколдованному саду феи Морганы.[156] Забудьте же все это, юный воин, – добавил он, похлопывая Квентина по плечу, – забудьте странствующую красавицу и вспоминайте об этой даме как о высокородной графине де Круа. И даю вам слово, что ее друзья – за одного по крайней мере я ручаюсь, – в свою очередь, будут помнить только оказанные ей вами услуги и забудут, о какой недостижимой награде вы имели смелость мечтать.
Взбешенный тем, что ему не удалось скрыть от проницательности Кревкера свои чувства, над которыми тот, видимо, только смеялся, Квентин ответил с негодованием:
– Господин граф, когда мне понадобится ваш совет, я сам его спрошу! Когда я буду нуждаться в вашей помощи, тогда вы будете иметь возможность оказать мне ее или отказать в ней. И, когда я стану дорожить вашим мнением обо мне, тогда вы мне его и сообщите.
– Так, так! – воскликнул граф. – Я очутился между Амадисом и Орианой.[157] Теперь мне остается только ждать вызова!
– Вы говорите об этом, граф, как о чем-то невозможном, а между тем, когда я скрестил копье с герцогом Орлеанским, я мог пролить кровь лучшую, чем кровь Кревкеров… Когда я обменялся ударами меча с Дюнуа, моим противником был лучший воин Франции!
– Да просветит небо твой разум, милый друг! – ответил Кревкер, продолжая смеяться над влюбленным рыцарем. – Если ты говоришь правду, тебе выпала редкая удача в этом мире. И, право, если провидению было угодно послать тебе такие испытания, прежде чем у тебя выросла борода, ты сойдешь с ума от тщеславия раньше, чем станешь мужчиной. Меня же рассердить ты не можешь, а можешь только рассмешить. Поверь мне, что если даже ты и сражался с принцами и спасал графинь по какому-нибудь капризу судьбы, которая любит шутить, то это еще не значит, чтобы ты был ровней своим случайным противникам или еще более случайной спутнице. Я понимаю, что ты, как всякий юноша, начитавшийся романов, размечтался и вообразил себя паладином;[158] но ты не должен сердиться на друга, который, желая тебе добра, встряхнул тебя за плечи и разбудил от сладких грез, хотя бы он сделал это несколько сурово и грубо.
– Граф де Кревкер, моя семья… – начал было Квентин.
– Я не о семье говорю, – перебил его граф, – я говорю о звании, о состоянии и о высоком положении, которые ставят непреодолимые преграды между людьми различных слоев общества. Что же касается рождения, то все мы происходим от Адама и Евы.
– Господин граф, – повторил Квентин, – мои предки, Дорварды из Глен-хулакина…
– Ну, – сказал граф, – если твои предки древнее Адама, значит, и толковать больше не о чем! Доброго вечера!
Он осадил коня и подождал графиню, которой намеки и советы графа, при всем его доброжелательстве, были, если возможно, еще более неприятны, чем Квентину. А Квентин ехал впереди, бормоча про себя: «Холодный, гордый, высокомерный наглец! Хотел бы я, чтобы первый шотландский стрелок, у которого будет в руках мушкетон, не отпустил бы тебя так легко, как я!»
К вечеру путники прибыли в город Шарлеруа на Самбре, где граф де Кревкер решил оставить Изабеллу, которая после всех пережитых ею волнений и испытаний и после почти пятидесяти миль безостановочного пути была не в состоянии ехать дальше, не рискуя повредить своему здоровью. Граф передал ее, совершенно разбитую и духом, и телом, на попечение настоятельницы женского цистерцианского монастыря в Шарлеруа, почтенной дамы, родственницы обеих семей – Кревкеров и де Круа, на благоразумие и доброту которой он мог вполне положиться.
Сам Кревкер остановился в городе лишь для того, чтобы дать указания о соблюдении строжайшей бдительности начальнику небольшого бургундского гарнизона, занимавшего город, и приказать, чтобы на все время пребывания в монастыре графини Изабеллы де Круа туда была поставлена почетная стража: официально – для обеспечения ее безопасности, но в действительности, вероятно, чтобы предупредить всякую попытку к бегству. Граф заявил, что причиной его распоряжения о строгой охране были дошедшие до него слухи о каких-то беспорядках в Льежском округе. Но он решил сам отвезти герцогу Карлу страшную весть о мятеже и убийстве епископа во всех ее ужасающих подробностях. Поэтому, раздобыв свежих лошадей для себя и своей свиты, он немедленно выехал дальше, решив сделать безостановочный переезд до Перонны. Квентину Дорварду он объявил, что берет его с собой, причем насмешливо извинился, что лишает его приятного общества.
– Надеюсь, впрочем, – добавил граф, – что вы, как истинный рыцарь и кавалер, во всяком случае предпочтете прогулку при луне такому прозаическому времяпрепровождению, как сон, который может доставить удовольствие только простому смертному.
Квентин, уже и без того огорченный разлукой с Изабеллой, готов был ответить на эту насмешку негодующим вызовом; но, зная, что граф только посмеется над его гневом и ответит презрением на вызов, решил дождаться более удобного времени и воспользоваться первым случаем, чтобы потребовать удовлетворения у этого гордого рыцаря, которого он ненавидел теперь почти так же, как Дикого Арденнского Вепря, хотя и по совершенно иным причинам. Итак, за неимением другого выхода, он должен был сопровождать Кревкера, и небольшой отряд с величайшей поспешностью выехал из Шарлеруа по дороге в Перонну.
Глава XXV
Нежданный гость
Все наши свойства сотканы непрочно —Изъян в материи всегда найдется:Подчас храбрец пугается собакиИ мудрый так себя ведет, что стыдноИ слабоумному глядеть на это,А ловкачи так часто попадаютВ расставленные ими же ловушки.Старинная пьесаКвентину в начале его ночного путешествия пришлось вынести тяжелую борьбу с тем горьким чувством сердечной боли, которое испытывает всякий юноша, расставаясь, быть может, навеки с любимой девушкой. Маленькая кавалькада, подгоняемая нетерпеливым Кревкером, спешившим добраться до Перонны, неслась по роскошной равнине Эно. Яркий свет осенней луны озарял тучные зеленые пастбища, леса и поля, с которых крестьяне, пользуясь лунной ночью, спешили свезти жатву (так трудолюбивы были фламандцы уже в те времена); он серебрил широкие, тихие, полноводные реки, по которым, не встречая на своем пути ни подводных камней, ни водоворотов, легко скользили белые паруса торговых судов мимо больших мирных селений, свидетельствовавших своим веселым, опрятным видом о благосостоянии их жителей; он освещал высокие мрачные башни феодальных замков знатных баронов и рыцарей, окруженных глубокими рвами и зубчатыми стенами (ибо в ту эпоху рыцари Эно выделялись своим богатством среди европейской знати), и сиял вдали на золотых куполах колоколен многочисленных монастырей.
Но все это богатство природы, эта картина мира и довольства, так резко отличавшаяся от диких, пустынных гор родины Квентина, не могла отвлечь его от печальных дум. Сердце его осталось в Шарлеруа, и теперь его занимала только мысль о том, что с каждым шагом он удаляется от Изабеллы. Он старался припомнить каждое ее слово, каждый взгляд, и, как это часто бывает в таких случаях, воспоминания производили на него гораздо более сильное впечатление, чем сама действительность.
Наконец, когда миновал холодный час полуночи, страшная усталость после двух суток, проведенных почти без сна, стала одолевать Квентина, несмотря на всю его любовь и горе, несмотря на привычку ко всяким физическим упражнениям и на его природную живость и выносливость. Мысли его становились все менее четкими и переплетались в голове с какими-то смутными представлениями и образами; все чувства словно замерли. Дорвард потому только не впадал в забытье, что, сознавая опасность, которая грозила ему, если бы он заснул, сидя на лошади, делал отчаянные усилия, чтобы не уснуть мертвым сном. Эта боязнь упасть с лошади или свалиться куда-нибудь вместе с нею подбодряла его на мгновение, но в следующую минуту прелестный, залитый лунным светом пейзаж уже опять исчезал из его отуманенных глаз и он снова почти валился с седла. Наконец граф Кревкер заметил состояние молодого человека и приказал двоим из своих людей ехать по обе его стороны, чтобы не дать ему упасть. А когда они добрались до маленького городка Ландреси, граф, из сострадания к юноше, не спавшему уже третью ночь, отдал приказание сделать небольшой привал, часа на четыре.
Дорвард спал глубоким сном, когда его разбудили звуки трубы Кревкера и крики его гонцов:
– Débout! Débout! На! Messires, en route, en route![159]
Хоть и не впору раздавались эти звуки для Квентина, проспавшего всего четыре часа, он все-таки проснулся совсем другим человеком. Снова чувствовал он себя сильным и бодрым, и вместе с восходом солнца к нему вернулась его вера в самого себя и в свою счастливую судьбу. Теперь он уже не думал о своей любви как о несбыточной мечте, но видел в ней источник живой силы, которая будет всегда поддерживать его, даже если препятствия окажутся так велики, что он не сможет преодолеть их и добиться успеха.
«Направляет же кормчий свой путь по Полярной звезде, – думал он, – хотя и не надеется когда-либо достигнуть ее; так и мне мысль об Изабелле де Круа поможет сделаться славным воином, хотя, возможно, я больше никогда ее не увижу. Когда она услышит, что солдат-шотландец, по имени Квентин Дорвард, отличился на поле брани или пал при защите какой-нибудь крепости, она, быть может, вспомнит своего товарища по путешествию, вспомнит, как он сделал все, что было в его силах, чтоб отвратить грозившие ей беды, и почтит его память слезой, а могилу – венком».
Почувствовав себя опять бодрым и мужественным, Квентин стал гораздо спокойнее относиться к шуткам графа де Кревкера, который посмеивался над его изнеженностью и неумением бороться с усталостью. Теперь молодой шотландец так добродушно выслушивал все эти насмешки и так находчиво, но в то же время почтительно отвечал на них, что граф, очевидно, переменил мнение о пленнике, который вчера, подавленный создавшимся положением, был или молчалив, или слишком дерзок.
В конце концов старый воин начал думать, что его юный спутник – славный малый, из которого может выйти толк, и даже намекнул ему, что если бы он оставил свою службу у французского короля, то он, Кревкер, постарался бы доставить ему почетное место при дворе герцога Бургундского и сам позаботился бы о его повышении. И, хотя Квентин, поблагодарив графа в подобающих выражениях, отказался от его любезного предложения, так как не знал еще достоверно, был ли он обманут своим первым покровителем, королем Людовиком, его отказ нимало не испортил добрых отношений между Квентином и графом. Восторженный образ мыслей молодого шотландца, его иностранный выговор и своеобразный способ выражаться часто вызывали улыбку на серьезном лице графа; но теперь это была веселая, добродушная улыбка, без всякой примеси вчерашнего злого сарказма.
Таким образом, маленький отряд продолжал свой путь в гораздо большем согласии, чем накануне, и наконец остановился в двух милях от знаменитой крепости Перонны, под стенами которой стояло лагерем войско герцога Бургундского, готовое, как говорили, двинуться во Францию. Людовик XI, со своей стороны, собрал большие силы под Сен-Максенсом с целью вразумить своего слишком могущественного вассала.
Перонна, расположенная на берегу полноводной реки, посреди широкой равнины, была окружена высокими, крепкими валами, глубокими рвами и считалась в те времена, как и в позднейшие, одной из самых сильных крепостей Франции. Граф де Кревкер со своей свитой и пленником приблизился к крепости около трех часов пополудни; выехав на небольшую прогалину густого леса, тянувшегося к востоку от города и подходившего почти к самым его стенам, они встретили двух знатных вельмож (судя по сопровождавшей их многочисленной свите), одетых в платье, которое в ту эпоху принято было носить в мирное время. У каждого на руке сидело по соколу, а позади бежала большая свора охотничьих и борзых собак; было очевидно, что эти господа забавлялись соколиной охотой. Но, завидев издали Кревкера, которого, вероятно, узнали по одежде и вооружению его отряда, они оставили свое занятие – преследование цапли по берегу длинного канала – и поскакали к нему.
– Новости, новости, граф Кревкер! – кричали оба в один голос. – Выкладывайте ваши новости! Или, может быть, сначала желаете выслушать наши? А не то давайте меняться, хотите?
– Я охотно устроил бы мену, господа, – ответил Кревкер, приветствуя их учтивым поклоном, – если бы заранее не был уверен, что для меня она будет невыгодна.
Охотники с улыбкой переглянулись, и старший из них, красивый смуглый человек с лицом настоящего средневекового барона, отмеченным тем грустным выражением, которое некоторые физиономисты приписывают меланхолическому характеру, а другие (как, например, итальянский ваятель, предсказавший участь Карла I по его лицу) считают предзнаменованием насильственной смерти,[160] сказал, обращаясь к товарищу:
– Кревкер был в Брабанте – торговой стране; он изучил все тонкие коммерческие уловки; мы останемся внакладе, если вступим с ним в сделку.
– Господа, – ответил Кревкер, – по праву государя, взимающего пошлину до открытия торга, герцог должен первым получить мой товар… Но не поделитесь ли вы со мной вашими новостями? Какие они – грустные или веселые?
Тот, к кому обратился Кревкер, был человек небольшого роста, с быстрым взглядом, живость которого смягчалась серьезным и вдумчивым выражением лица, в особенности рта. Наружность его свидетельствовала о том, что это человек острого, проницательного ума, но осмотрительный в своих решениях и в выражении своих мнений. Это был знаменитый рыцарь Эно, сын Коллара, или Никола де л’Элит, известный в истории и среди историков под именем Филиппа де Комина,[161] в то время любимый советник герцога Карла Смелого и один из самых приближенных к нему людей. На вопрос Кревкера о том, каковы их новости, он ответил:
– Лучше всего было бы сравнить их с радугой, ибо они, как радуга, меняют цвета и оттенки, смотря по тому, ясно или облачно небо: все зависит от того, с какой точки зрения на них взглянуть. Такой радуги ни Франция, ни Фландрия не видели со времен Ноева ковчега.
– А мои вести, – сказал Кревкер, – больше похожи на мрачную комету: они ужасны сами по себе, но предвещают в будущем еще более ужасные и грозные события.
– Придется нам, видно, распаковать наш товар, – обратился де Комин к своему товарищу, – не то кто-нибудь перебьет у нас покупателя, потому что ведь, в сущности, наши новости здесь всем известны… Слушайте же, Кревкер, слушайте и удивляйтесь: король Людовик в Перонне!
– Как! – в изумлении воскликнул Кревкер. – Разве герцог сдался без боя? И каким образом разгуливаете вы здесь, господа, сняв доспехи, если город осажден французами?.. Потому что я не могу поверить, чтоб он был взят…
– Нет! Разумеется, нет! – сказал д’Эмберкур. – Бургундские знамена не отступили ни на шаг; и тем не менее король Людовик здесь.
– Так неужели Эдуард Английский со своими стрелками переплыл море и, подобно своим предкам, одержал новую победу при Пуатье?[162] – воскликнул Кревкер.
– Нет, опять-таки нет, – ответил Комин. – Ни одно французское знамя не было взято, ни одно судно не выходило из Англии, а Эдуарду так нравится волочиться за женами своих лондонских граждан, что он и не думает разыгрывать Черного принца.[163] Но, так и быть, слушайте, что у нас происходит. Вы знаете, что, когда вы уезжали, переговоры между французскими и бургундскими уполномоченными были прерваны без малейшей надежды на соглашение.
– Знаю, и все мы тогда бредили войной.
– То, что потом последовало, так похоже на сон, – продолжал Комин, – что, право, мне все кажется, будто я вот-вот проснусь и увижу, что грезил. Не дальше как вчера в совете герцог с таким бешенством восставал против дальнейшего промедления, что было решено объявить королю войну и немедленно отдать войскам приказ о выступлении. Бургундский герольд, рыцарь Золотого Руна, который должен был отвезти вызов, уже облачился в свой официальный костюм и готовился сесть на коня, как вдруг – что же мы видим! – к нам в лагерь въезжает французский герольд Монжуа. Мы все, конечно, подумали, что Людовик успел нас опередить и, со своей стороны, шлет вызов Бургундии, и стали обсуждать между собой, как разгневается герцог на тех, кто своими уговорами помешал ему объявить войну первому. Но тут же был созван совет, и каково было наше удивление, когда герольд объявил, что французский король Людовик сейчас находится не далее как на расстоянии часа пути от Перонны и едет с небольшой свитой к герцогу Карлу, чтобы в личном свидании уладить возникшие между ними недоразумения.
– Все это, бесспорно, удивительно, господа, – сказал Кревкер, – но не так удивляет меня, как вы, может быть, думали, ибо во время моей последней поездки в Плесси-ле-Тур всеведущий и всемогущий кардинал де Балю, оскорбленный своим государем, почти перешел на нашу сторону и намекнул мне, что постарается воспользоваться некоторыми известными ему слабостями Людовика и поставить его в такое положение перед Бургундией, что герцог получит полную возможность предписывать королю те или другие условия мира. Но я никак не думал, что эта старая лиса Людовик добровольно полезет в такую ловушку. Что же решили на совете?
– На совете, как вы, наверно, и сами догадываетесь, – ответил д’Эмберкур, – очень много говорилось о чести, об оправдании доверия короля и ни слова – о тех выгодах, которые можно было бы извлечь из этого посещения, хотя, само собой разумеется, все думали именно о выгодах и ухищрялись только, как бы примирить их с соблюдением внешних приличий.