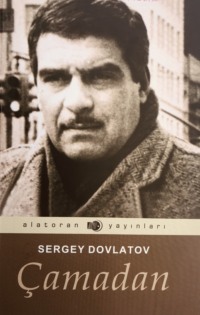Полная версия
Филиал
– Ковригин! Ковригин!
– Я тут проездом, – сказал Ковригин, – живу у одного знакомого. Гостиница мне ни к чему.
Матейка воскликнул:
– Ура! Мне не придется жить с Далматовым!
Я тоже вздохнул с облегчением.
Ковригин неожиданно возвысил голос:
– Плевать я хотел на ваш симпозиум. Все собравшиеся здесь – банкроты. Западное общество морально разложилось. Эмиграция – тем более. Значительные события могут произойти только в России!
Хиггинс миролюбиво заметил:
– Да ведь это же и есть тема нашего симпозиума.
Вечером нам показывали достопримечательности. Сам я ко всему этому равнодушен. Особенно к музеям. Меня всегда угнетало противоестественное скопление редкостей. Глупо держать в помещении больше одной картины Рембрандта…
Сначала нам показывали каньон, что-то вроде ущелья. Увязавшийся с нами Ковригин поглядел и говорит:
– Под Мелитополем таких каньонов до хрена!
Мы поехали дальше. Осмотрели сельскохозяйственную ферму: жилые постройки, зернохранилище, конюшню.
Ковригин недовольно сказал:
– Наши лошади в три раза больше!
– Это пони, – сказал мистер Хиггинс.
– Я им не завидую.
– Естественно, – заметил Хиггинс, – это могло бы показаться странным.
Затем мы побывали в форте Ромпер. Ознакомились с какой-то исторической мортирой. Ковригин заглянул в ее холодный ствол и отчеканил:
– То ли дело наша зенитная артиллерия!
Более всего нас поразил кофейный автомат. Мы ехали по направлению к Санта-Барбаре. Горизонт был чистый и просторный. Вдоль шоссе тянулись пронизанные светом заросли боярышника. Казалось – до ближайшего жилья десятки, сотни миль.
И вдруг мы увидели будку с надписью «Кофе». Автобус затормозил. Мы вышли на дорогу. Прозаик Беляков шагнул вперед. Внимательно прочитал инструкцию. Достал из кармана монету. Опустил ее в щель.
Что-то щелкнуло, и в маленькой нише утвердился бумажный стаканчик.
– Дарья! – закричал Беляков. – Стаканчик!
И бросил в щель еще одну монету. Из неведомого отверстия высыпалась горсть сахара.
– Дарья! – воскликнул Беляков. – Сахар!
И опустил третью монету. Стакан наполнился горячим кофе.
– Дарья! – не унимался Беляков. – Кофе!
Дарья Владимировна с любовью посмотрела на мужа. Затем с материнской нежностью в голосе произнесла:
– Ты не в Мордовии, чучело!
Хорошо человеку семейному оказаться в гостинице. Да еще в незнакомом американском городе. Летом.
Телефон безмолвствует. Холодный душ в твоем распоряжении. Обязанностей никаких.
Можно курить, роняя пепел на одеяло. Можно не запираться в уборной. Можно ходить по ковру босиком.
Рестораны и бары открыты. Деньги есть. За каждым поворотом тебя ожидает приятная встреча.
Можно послушать новости. Можно спуститься в бар. Можно узнать телефон старой приятельницы Регины Кошиц, обосновавшейся в Лос-Анджелесе.
Что вместо этого проделывает русский литератор? Естественно, звонит домой, в Нью-Йорк. И сразу же на его плечи обрушиваются всяческие заботы. У матери бронхит. Ребенок кашляет. Компьютерная наборная машина требует ремонта. А я, значит, участвую в симпозиуме «Новая Россия»… До чего несерьезно складывается жизнь!
Я лег и задумался – что происходит?! Какие-то нелепые, сомнительные обстоятельства. Бессмысленно просторный номер. За окном через все небо тянется реклама авиакомпании «Перл». У изголовья моей постели Библия на чужом языке. В кармане пиджака – блокнот с единственной малопонятной записью: «Юмор – инверсия разума». Что это значит?
Что все это значит? Кто я и откуда? Ради чего здесь нахожусь?
Мне сорок пять лет. Все нормальные люди давно застрелились или хотя бы спились. А я даже курить и то чуть не бросил. Хорошо, один поэт сказал мне:
– Если утром не закурить, тогда и просыпаться глупо…
Зазвонил телефон. Я поднял трубку.
– Вы заказывали четыре порции бренди?
– Да, – солгал я почти без колебаний.
– Несу…
Вот и хорошо, думаю. Вот и замечательно. В любой ситуации необходима какая-то доля абсурда.
Симпозиум открылся ровно в девять. Причем одновременно в трех местах. В Дановер-Холле заседала общественно-политическая секция. В библиотеке церкви Сент-Джонс обсуждалась религиозная проблематика. В галерее Мориса Лурье шел разговор на культурные темы.
Каждая секция должна была провести шесть заседаний.
Накануне я получил копии всех основных докладов. Записал короткое интервью с мистером Хиггинсом. Оставалось побеседовать со знаменитостями. Ну, и кое-что послушать – так, для общего развития.
В принципе я мог улететь хоть сегодня.
– Глупо, – сказал мне загадочный религиозный деятель Лемкус, – а как же банкет?!
Хиггинс сказал в микрофон единственную фразу. Точнее, начало первой фразы. А именно:
– Дис из э грейт привиледж фор ми…
Остальное я не записывал. Дальше я перейду на русский язык. И прекрасно скажу за него все, что требуется.
Утром я был в Дановер-Холле, где заседала общественно-политическая секция. Записал на пленку так называемые шумовые эффекты. То есть аплодисменты, кашель, смех, шуршание бумаги, выкрики из зала.
Я даже молчание записал на пленку. Причем варианта три или четыре. Благоговейное молчание. Молчание с оттенком недовольства. Молчание, нарушенное возгласом: «Посланник КГБ!» Молчание плюс гулкие шаги докладчика, идущего к трибуне. И так далее.
Допустим, я веду свой репортаж. И говорю, что было решено почтить кого-нибудь вставанием. К примеру, Григоренко или, скажем, Амальрика. А дальше я в сценарии указываю: «Запись. Тишина номер один». Ну и тому подобное.
Уже лет десять разукрашиваю я такими арабесками свои еженедельные программы. За эти годы у меня образовалась колоссальнейшая фонотека. Там есть все что угодно. От жужжания бормашины до криков говорящего попугая. От звука полицейской сирены до нетрезвых рыданий художника Елисеенко.
Когда-то я даже записал скрип протеза. Это была радиопередача о мужественном хореографе из Черновиц, который сохранил на Западе верность любимой профессии.
Более того, в моей фонотеке есть даже звук поцелуя. Это исторический, вернее – доисторический поцелуй. Поскольку целуются – кто бы вы думали? – Максимов и Синявский. Запись была осуществлена в тысяча девятьсот семьдесят шестом году. За некоторое время до исторического разрыва почвенников с либералами.
На симпозиуме оба течения были представлены равным количеством единомышленников. В первый же день они категорически размежевались.
Причем даже внешне они были совершенно разные. Почвенники щеголяли в двубортных костюмах, синтетических галстуках и ботинках на литой резине. Либералы были преимущественно в джинсах, свитерах и замшевых куртках.
Почвенники добросовестно сидели в аудитории. Либералы в основном бродили по коридорам.
Почвенники испытывали взаимное отвращение, но действовали сообща. Либералы были связаны взаимным расположением, но гуляли поодиночке.
Почвенники ждали Синявского, чтобы дезавуировать его в глазах американцев. Либералы поджидали Максимова и, в общем, с такой же целью.
Почвенники употребляли выражения с былинным оттенком. Такие, допустим, как «паче чаяния» или «ничтоже сумняшеся». И еще: «с энергией, достойной лучшего применения». А также: «Солженицын вас за это не похвалит». Либералы же использовали современные формулировки типа: «За такие вещи бьют по физиономии!» Или: «Поцелуйтесь с Риббентропом!» А также: «Сахаров вам этого не простит».
Почвенники запасали спиртное на вечер. Причем держали его не в холодильниках, а между оконными рамами. Среди либералов было много выпивших уже на первом заседании.
Почвенники не владели английским и заявляли об этом с гордостью. Либералы тоже не владели английским и стыдились этого.
Вместе с тем между почвенниками и либералами было немало общего. В Союзе их называли махровыми шовинистами и безродными космополитами. И они прекрасно ладили между собой.
В тюремных камерах они жили дружно. На воле им стало тесновато.
И все-таки они похожи. Как почвенники, так и либералы считают американцев глупыми, наивными, беспечными детьми. Детьми, которых необходимо воспитывать. Как почвенники, так и либералы высказываются громко. Главное для них – скомпрометировать оппонента как личность. Как почвенники, так и либералы с болью думают о родине. Но есть одна существенная разница. Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к величайшему сожалению, уже заявила.
Религиозные семинары проходили в церковной библиотеке. Там собирались православные, иудаисты, мусульмане, католики. Каждой из групп было выделено отдельное помещение.
В перерыве среди участников начали циркулировать документы. Иудаисты собирали подписи в защиту Анатолия Щаранского. Православные добивались освобождения Глеба Якунина. Сыны ислама хлопотали за Мустафу Джемилева. Католики пытались спасти Иозаса Болеслаускаса.
С подписями возникли неожиданные трудности. Иудаисты отказались защищать православного Якунина. Православные не захотели добиваться освобождения еврея Щаранского. Мусульмане заявили, что у них собственных проблем хватает. А католики вообще перешли на литовский язык.
Тут в кулуарах симпозиума появились Литвинский и Шагин. Оба были в прошлом знаменитыми диссидентами. Они довольно громко разговаривали и курили. Казалось, что они слегка навеселе.
– В чем дело? – спросили Литвинский и Шагин.
Им объяснили, в чем дело.
– Ясно, – проговорили Литвинский и Шагин, – тащите сюда ваши документы.
Сначала они подписали бумагу в защиту Щаранского. Потом – меморандум в защиту Якунина. Потом – обращение в защиту Джемилева. И наконец – петицию в защиту Болеслаускаса.
К Литвинскому и Шагину приблизился священник Аристарх Филадельфийский. Он сказал:
– Вы проявили истинное человеколюбие! Как вы достигли такого нравственного совершенства?! Кто вы? Православные, иудаисты, мусульмане, католики?
– А мы неверующие, – сказали Литвинский и Шагин.
– Как же вы здесь оказались?
– Да, в общем-то, случайно. Просто так, гуляли и зашли…
За обедом вспыхнула ссора. Редактор ежемесячного журнала «Комплимент» Большаков оскорбил сиониста Гурфинкеля. Спор, естественно, зашел о новой России. Точнее говоря, об ускорении и перестройке.
Большаков говорил:
– Россия на перепутье.
Гурфинкель перебил его:
– Одно из двух – если там перестройка, значит нет ускорения. А если там ускорение, значит нет перестройки.
Тогда Большаков закричал:
– Не трожь Россию, инородец!
Все зашумели. В наступившей после этого тишине Гурфинкель спросил:
– Знаете ли вы, мистер Большаков, как погиб Терпандер?
– Какой еще Терпандер?
– Греческий певец Терпандер, который жил в шестом столетии до нашей эры.
– Ну и как же он погиб? – вдруг заинтересовался Большаков.
Гурфинкель помедлил и начал:
– Вот слушайте. У Терпандера была четырехструнная лира. И он, видите ли, решил ее усовершенствовать. Добавить к ней еще одну струну. И повысить, таким образом, диапазон своей лиры на целую квинту. Вы знаете, что такое квинта?
– Дальше! – с раздражением крикнул Большаков.
– И вот он натянул эту пятую струну. И отправился выступать перед начальством. И заиграл на этой лире с повышенным, заметьте, диапазоном. И затянул какую-то дионисийскую песню. А рядом оказался некультурный воин Медонт. И подобрал этот воин с земли недозрелую фигу. И кинул ее в певца Терпандера. И угодил ему прямо в рот. И через минуту греческий певец Терпандер скончался от удушья. Подчеркиваю – в невероятных муках.
– Зачем вы мне это рассказываете? – изумленно спросил Большаков.
Гурфинкель вновь дождался полной тишины и объяснил:
– Хотите знать, в чем тут мораль? Мораль проста. А именно: не повышайте тона, мистер Большаков. Вы слышите? Не повышайте тона! Главное – не повышайте тона, я вас умоляю. Не повторите ошибку Терпандера.
Затем я отправился в галерею Мориса Лурье. Там заседала культурная секция. Должен был выступать Рувим Ковригин. Помнится, Ковригин не хотел участвовать в симпозиуме. Однако передумал.
Еще в дверях меня предупредили:
– Главное – не обижайте Ковригина.
– Почему же я должен его обижать?
– Вы можете разгорячиться и обидеть Ковригина. Не делайте этого.
– Почему же я должен разгорячиться?
– Потому что Ковригин сам вас обидит. А вы, не дай Господь, разгорячитесь и обидите его. Так вот, не делайте этого.
– Почему же Ковригин должен меня обидеть?
– Потому что Ковригин всех обижает. Вы не исключение. В общем, не реагируйте, Ковригин страшно ранимый и болезненно чуткий.
– Может, я тоже страшно ранимый?
– Ковригин – особенно. Не обижайте его. Даже если Ковригин покроет вас матом. Это у него от застенчивости…
Началось заседание. Слово взял Ковригин. И сразу же оскорбил всех западных славистов. Он сказал:
– Я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей…
Затем Ковригин оскорбил целый город. Он сказал:
– Иосиф Бродский хоть и ленинградец, но талантливый поэт…
И наконец Ковригин оскорбил меня. Он сказал:
– Среди нас присутствуют беспринципные журналисты. Кто там поближе, выведите этого господина. Иначе я сам за него возьмусь!
Я сказал в ответ:
– Рискни.
На меня замахали руками:
– Не реагируйте! Не обижайте Ковригина! Сидите тихо! А еще лучше – выйдите из зала…
Один Панаев заступился:
– Рувим должен принести извинения. Только пусть извинится как следует. А то я знаю Руню. Руня извиняется следующим образом: «Прости, мой дорогой, но все же ты – говно!»
Потом состоялась дискуссия. Каждому участнику было предоставлено семь минут. Наступила очередь Ковригина. Свою речь он посвятил творчеству Эдуарда Лимонова. Семь минут Ковригин обвинял Лимонова в хулиганстве, порнографии и забвении русских гуманистических традиций. Наконец ему сказали:
– Время истекло.
– Я еще не закончил.
Тут вмешался аморальный Лимонов:
– В постели можете долго не кончать, Рувим Исаевич. А тут извольте следовать регламенту.
Все закричали:
– Не обижайте Ковригина! Он такой ранимый!
– Время истекло, – повторил модератор.
Ковригин не уходил.
Тогда Лимонов обратился к модератору:
– Мне тоже полагается время?
– Естественно. Семь минут.
– Могу я предоставить это время Рувиму Ковригину?
– Это ваше право.
И Ковригин еще семь минут проклинал Лимонова. Причем теперь уже за его счет.
К шести я был в гостинице. Переоделся. Выпил чаю, который заказал по телефону.
Перспективы были неопределенные. Панаев звал к своим однополчанам в Глемп. Официально всех нас пригласили к заместительнице мэра. Были даже разговоры о поездке в Голливуд.
Можно было отправиться в ресторан с тем же Лимоновым. А еще лучше – одному. В расчете на какое-то сентиментальное происшествие. На какую-то романтическую случайность…
Допустим, захожу. Напротив двери веселится голливудская компания. Завидев меня, полуодетая Джулия Эндрюс восклицает:
– Шапки долой, господа! Перед вами – гений!..
Есть и другой вариант. Иду по улице. Хулиганы избивают старика. Припомнив уроки тренера Гафиатулина, я делаю шаг вперед. Хулиганы в нокдауне. Старик произносит:
– Моя фамилия Гетти. Чем я могу отблагодарить вас? Что вы думаете о парочке нефтяных скважин?..
И так далее. А ведь я, формально рассуждая, интеллектуал. Так почему же мои грезы столь убоги? Чего я жду каждый раз, оказываясь в незнакомом месте?
Хотя, если разобраться, я ведь пересек континент. Оставил позади четыре тысячи километров. Неужели все это лишь для того, чтобы поругаться с Ковригиным?
Глупо чего-то ждать. Однако еще глупее валяться на диване с последней книжкой Армалинского.
Вдруг я заметил, что у меня трясутся руки. Причем не дрожат, а именно трясутся. До звона чайной ложечки в стакане.
Что со мной каждый раз происходит в незнакомом городе?
И тут в дверь постучали.
– Войдите, – говорю, – кам ин!
Обратным зрением я видел каждую мелочь. Отметил и запомнил десятки красноречивых симптомов будущего происшествия. Долгий неубывающий рев амбулаторной сирены. Прерывистое гудение холодильника. Бледно-голубое лишнее «А» в светящейся рекламе «Перл» («PeArl»). Надувшиеся в безветренный день оконные занавески. Странный запах болотной тины, напоминающий о пионерском детстве в Юкках. Горький вкус не по-американски добросовестно заваренного чая. Все предвещало что-то неожиданное.
Я только не знаю, как они взаимосвязаны – происшествие и беспокойство. То ли беспокойство – симптом происшествия? То ли само происшествие есть результат беспокойства?..
В общем, я ждал, что произойдет какая-то неожиданность. Недаром я испытывал чувство страха. Недаром у меня было ощущение тревоги. Не случайно я остался в гостинице. Явно чего-то ждал. И вот дождался…
На пороге стояла моя жена. Вернее, бывшая жена. И даже не жена, а – как бы лучше выразиться – первая любовь.
Короче, я увидел Таську в невообразимом желтом одеянии.
Но это – длинная история…
* * *В августе шестидесятого года я поступил на филфак. У меня не было тогда влечения к литературе. Однако точные науки представлялись мне еще более чуждыми. Среди «неточных», я уверен, первое место занимает филология. Так что я превратился в гуманитария. Тем более что мне как спортсмену полагались определенные льготы.
В университете я быстро ощутил себя чужим. Студенты без конца распространялись о вещах, не интересовавших меня. Любой из них мог разгорячиться безо всякого повода. Помню, как Лева Баранов, вялый юноша из Тихвина, ударил ногой аспиранта Рыленко, осмелившегося заявить, что Достоевский сродни экспрессионизму.
К преподавателям я относился с любопытством, но без должного уважения. Вряд ли кто-то из них меня запомнил. Хотя однажды латинист Бобович спросил перед началом занятий:
– А где Далматов?
– На соревнованиях, – ответил мой друг Эля Баскин. (За час до этого мы с ним расстались возле пивного бара.)
– Какой же вид спорта предпочел этот довольно бездарный молодой человек?
– Далматов – известный боксер.
– Вот как, – задумчиво протянул Бобович, – странно. Очень странно… Ведь он совершенно не знает латыни.
Короче, я пропускал одну лекцию за другой. Лучше всего, таким образом, мне запомнились университетские коридоры. Я помню тесноту около доски с расписаниями. Запах тающего снега в раздевалке. Факультетскую стенгазету напротив двери. Следы бесчисленных кнопок на ее загибающихся уголках. Отполированные до блеска скамьи возле фотолаборатории.
Примерно к двенадцати здесь собираются окрестные лентяи. Мы говорим о литературе и разглядываем пробегающих мимо девиц.
У нас есть свобода и молодость. А свобода плюс молодость вроде бы и называется любовью.
Помню ожидание любви. Буквально каждую секунду я чего-то жду. Как в аэропорту, где ты поджидаешь незнакомого человека. Держишься на виду, чтобы он мог подойти и сказать: «Это я».
Я знал, что скоро и у меня будет девушка в кожаной юбке…
Вот приближается Гага Смирнов, лет через десять женившийся на француженке. Вот Миша Захаров, который сейчас чуть ли не директор издательства. Арик Батист, тогда еще писавший романтические стихи. Лева Балиев, не помышлявший в те годы о дипломатической карьере. Будущий взяточник, заключенный и деклассированная личность – Клейн. Женя Рябов с красивой девушкой и неизменной магниевой вспышкой. (Я совершенно убежден, что можно покорить любую женщину, без конца фотографируя ее.)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.