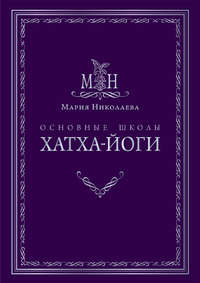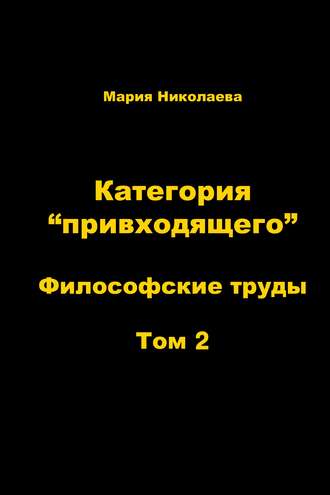
Полная версия
Категория «привходящего». Том 2

Мария Николаева
Категория «привходящего»
Философские труды
Том 2
Конечное и бесконечное[1]
Мы будем исходить из выводов, сделанных в основополагающем изложении истории герменевтики как теории, формировавшейся в процессе интерпретации феноменов культуры. Ограничимся двумя явными сменами точки зрения на отношение этики и эстетики друг к другу и их место в философии. «Понятие вкуса первоначально было скорее моральным, нежели эстетическим… Для Канта от широты и богатства того, что можно было бы назвать нравственной способностью суждения, остается только эстетическое суждение «вкуса»… Фихте и Шеллинг по-новому употребляют в эстетике понятие трансцендентальной способности воображения. В противоположность Канту позиция искусства понимается всеобъемлюще. Но тем самым сдвигаются основания эстетики. Моральный интерес к прекрасному в природе отступает перед встречей человека с самим собой в произведениях искусства. В эстетике Гегеля прекрасное в природе выступает уже лишь как «отблеск духа»… Кьеркегор увидел разрушительные последствия субъективизма и первым описал самоуничтожение эстетической непосредственности. Его учение об эстетической стадии экзистенции набрасывалось с позиций этика, для которого неисцелимось и непрочность экзистенции возникают в чистой непосредственности и неконтинуальности». [1]
Мы поставим перед собой два вопроса; ответ на первый из них будет служить лишь основанием для следующего, на который мы готовы не столько ответить, сколько показать, как он вообще возможен. Во-первых, нас интересует, как основные понятия этики и эстетики – долг и красота – выражаются через разрешение противоречия между «конечным» и «бесконечным» (Сартр считал его основным), хотя бы оно и состояло на каком-то этапе в ясном и отчетливом выражении их несовместимости. Во-вторых, как в данном контексте отличие прекрасного от возвышенного по Шеллингу сравнительно с таковым у Канта соотносится, – если вообще соотносимо (кроме переноса и модификации чисто логической конструкции, находящейся на том уровне конкретности, где этика и эстетика еще не выделяются из философии), – с двумя формами отчаяния по Кьеркегору. Второй план заданного сравнения обнаруживается в апелляции Кьеркегора к Фихте через употребление категории «воображения» в качестве основания самого сознания. Тем самым, воображение как чисто эстетическая функция вмешивается в веление долга как чисто этическое требование. И это несмотря на то, что в логике Гегеля дается подробный разбор представления о пределе и долженствовании как моментах бесконечного, возникающего в самом конечном – ибо Кьеркегор находил гегелевскую логику совершенно неэтичной в силу отождествления в ней зла и негативного вообще.
Итак, по Канту «прекрасное в природе относится к форме предмета, которая состоит в ограничении; напротив, возвышенное может быть обнаружено и в бесформенном предмете, поскольку в нем или в связи с ним представляется безграничность, к которой тем не менее примысливается ее тотальность. Если прекрасное ведет непосредственно к усилению жизнедеятельности и поэтому может сочетаться с игрой воображения, то чувство возвышенного возникает лишь опосредованно, а именно порождается чувством мгновенного торможения жизненных сил и следующего за этим их приливом, таким образом, оно не игра, а серьезное занятие воображения». [2] Кант делает из этого вывод, что объект может быть только прекрасным, тогда как возвышенность придает ему определенная идея разума. Для Шеллинга прекрасное и возвышенное не просто акцентируют конечность или бесконечность объекта созерцания, но оба представляют собой различные формы выражения бесконечного через конечное. «Бесконечное, выраженное в конечном, есть красота… Но противоположность между красотой и возвышенностью существует только применительно к объекту, а не к субъекту созерцания. Там, где есть красота, бесконечное противоречие снято в самом объекте, тогда как там, где присутствует возвышенное, противоречие не снято в самом объекте, а доведено в нем до такой остроты, при которой оно невольно снимается в созерцании, что по существу то же самое, как если бы оно было снято в объекте». [3]
Теперь обратимся к использованию категорий «конечного» и «бесконечного» в этике. Согласно Кьеркегору, отчаяние, рассмотренное не под углом зрения сознания, но только соответственно составляющим синтеза Я, подпадает под некую двойную категорию конечного и бесконечного. Причем, само оно оказывается формой исключения того или другого: либо это отчаяние бесконечного, или недостаток конечного, либо отчаяние конечного, или недостаток бесконечного. И если первое из них оказывается воображаемым существованием, то второе говорит только о моральной скудости в противоположность эстетической узости. Более того, если мы попытаемся переобозначить их через узнаваемые определения прекрасного и возвышенного, – и сказать, например, что целокупность отчаяния распадается в своих феноменальных проявлениях из-за невозможности совместить в себе самовыражение красоты и возвышенности, или что-нибудь в этом роде – прежде всего нас остановит обнаружение принципиально иной структуры субъект-объектного отношения, ибо здесь Я выносит суждение о не-Я (вот почему воображение определяется по Фихте – как рефлексия, которая создает бесконечное). «Я – это осознанный синтез конечного и бесконечного, который относится к себе самому и целью которого является стать самим собой. Однако стать самим собою – значит стать конкретным, а таковым не становятся ни в конечном, ни в бесконечном, поскольку конкретное, которым нужно стать – это синтез. Эволюция состоит в том, чтобы бесконечно удаляться от самого себя в делании своего Я бесконечным, – и бесконечно приближаться к самому себе, делая это Я конечным. Напротив, то Я, которое не становится собою, остается отчаявшимся». [4]
Для последней точки зрения эстетическое отношение нерефлективно даже тогда, когда оно совершенно (обладает завершенностью предзаданной формы), в то время как этическое отношение совершеннее уже тогда, когда оно еще не достигает полной рефлексии – в отчаянии. Но если самосознание формирует мир в силу избирательности внимания, то отчаяние-бесконечного склонно к созерцанию возвышенных объектов, а отчаяние-конечного ищет лишь красивого – не потому, что оно способно воспринимать подобные объекты, а потому, что те сами по себе уже готовы к восприемлимости. И если эстетическая позиция предшествует этической, то переход с наибольшей вероятностью может произойти именно от созерцания-возвышенного к отчаянию-бесконечного – сравнение рыцаря веры с трагическим героем подчеркивает близость этих персонажей.
Литература
1. Х.-Г. Гадамер. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 77, 102, 141.
2. И. Кант. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994. С. 114.
3. Ф.В.Й. Шеллинг. Система трансцендентального идеализма. М.: Мысль, 1987. С. 479.
4. С. Кьеркегор. Болезнь к смерти. //Страх и трепет. М.: Республика, 1993. С. 267–268.
Самое самозабвение[2]
Философствование меняет свой прототип. Божественное мышление, мыслящее самое себя, ищет, чем заменить в самом себе уже «отмысленную» божественность. Гегелевские понятия, неудовлетворительность которых позволяет до сих пор находить самоудовлетворение в продолжении мысли, пытались подчинить неким «реальным силам», варианты которых достаточно многочисленны. Прежде всего напрашивается сравнение этих «усилий» с теми, которые предпринимает и которые одни воспринимает извне сознание, находящееся на одной из первых ступеней гегелевской феноменологии. [1] Было бы странно обнаружить, что мыслители ХХ века именно через старания превзойти систему Гегеля и системность вообще оказались запрограммированы на разработку указанного им состояния сознания. Но обнаруживается нечто еще более странное – социализация представления о Боге, называемая нередко его смертью. Последовательное мышление в понятиях перекрывается игрой мыслящих сил – такова формальная сторона вопроса. Всеобщее, или Бог как предмет философии постепенно уступает место особенному, или обществу, пусть и в глобальном смысле – таково содержание бытия; не только констатация, но и конкретизация которого все равно остается прерогативой философии.
Находя и в просвещении диалектическую логику, ему приписывают выделение двух полюсов самозабвения или безумия в целом. «Служить богу, не постулирующему самости, такое же безумие, как и пьянство. Обоим прогресс приуготовляет одинаковую участь: обоготворения и погружения в непосредственное природное бытие; самозабвение мысли, равно как и самозабвение похоти предается им проклятью. Опосредованным принципом самости является общественный труд». [2] Просвещение безусловно ориентировалось на воспринимающую среду; тогда как для рефлексии просвещения в качестве снятой формы социализации философствования также и подобная ориентация кажется чем-то необязательным, но тем не менее заслуживающим специального исследования. Подлинно философский интерес может вызывать, например, история сексуальности (Фуко) или другой общественный процесс. Ориентируясь на непостоянство социальной интуиции, мы вспоминаем всякий раз об уже несовременном типе философа, многоопытного в получении фактов сознания вместо бытия в мире. В самом самозабвении мысль и похоть незаменимы друг в друге.
Складывается впечатление, что философа конца ХХ века, как правило работающего по совместительству психоаналитиком, интересует скорее секс как таковой, чем личность Бога во всяком ее конкретном проявлении. Имеется в виду следующее. «Сад дереализует зрение как «агрегат умозаключений» или то, что философы обычно называют мышлением, вместо Бога обожествляя непомерность первичного телесного жеста… Мы оказываемся в мире телесных автоматов, которые выдавливают всеобщее, в том числе и Бога, из случайностей своего собственного устройства… Страстность атеизма Сада прямо пропорциональна бескомпромисной гиперреальности отстаиваемого им мира». [3] Но садизм с появлением работ Фрейда в принципе признан присущим каждому социально несовершенному, а значит в той или иной мере практически каждому индивиду. Следовательно, адаптирующийся к своему жизненному миру философ имеет дело с реальной эротизацией (отрефлектированностью сексуальности) представлений обыденного сознания, садизм которых проявляется в насилии над образом Бога, ограничивающем его контурами тела. Так что для силы, пренебрегающей понятием, наиболее ясной и отчетливой оказывается идея не чистого мышления о мышлении, а секса – адекватной телесной рефлексии тела.
В чем состоит понятие Бога в западной философии XX века – не является корректным вопросом: для определенности самой философии уже не существует ни понятий, ни Бога; то и другое представляется несущественным. Даже маркиз де Сад по мнению «садоведов» (в каком смысле эта деятельность оказывается самосознанием и выступает в качестве философии мы указали выше) прилежит борьбе с Богом куда больше, чем настоянию на том или ином «отклоняющемся» сексуальном акте. Но даже противоречие Богу осталось в прошлом. Привычка к самозабвению распространяется на все отношения – и на самосознание тоже, где абсолютный субъект не имеет места за ненадобностью. И подчеркивая, что освободившаяся и поначалу «горячая» вакансия Бога ликвидирована как таковая, только повторяют заключение о другом способе ее замещения. Социальные силы размывают определения должностей; «текучесть кадров» в философии – показатель того, что не только невозможно уже однозначно судить о том, кто заслуживает звания философа, но и самоопределение через самоотдачу в любви к мудрости за последний век стало более чем проблематично – оно никому не нужно.
Неспособность диалектической логики справиться с разрешением противоречия садизма и мазохизма подтверждает их без-понятийный характер. Делёз настаивает на том, что мазохизм недопустимо считать тенденцией, строго взаимодополнительной к садизму. Он неоднократно возвращается к «мазохистскому визионеру» с его «диковинным» видинием «смерти Бога», – чтобы показать, что в предрассудке о садо-мазохистском единстве «дело не заходит дальше каких-то весьма грубых, плохо различенных понятий». [4] Поэтому отсутствие Бога как содержательности философии не оформляется и в данности варианта его удержания: мазохизм тоже выражает прочувствованность преобладания небытия в самом бытии, но не прямо противоположным образом, чем это было бы ясно из наблюдения за садизмом. Поэтому Делёз и Гватари считают комизацией давать подобно Ницше десять-пятнадцать равно вероятных версий этого события – и заключают, что Смерть бога не имеет никакого значения для бессознательного, а значит Он никогда и не существовал. [5] Собственно, думать в подлинном смысле слова, – приближаясь к божественному мышлению о самом себе по Аристотелю или рефлексии абсолютного Духа по Гегелю, – некому и не о чем. Атеизм (в качестве внешней рефлексии обожения) к концу XX века – такой же пережиток, как и суеверие (исключительно внутренняя рефлексия обожения).
Пусть останется непонятным, прогрессирует философствование или свободно трансформируется. Но с полным самозабвением предаваясь самосознанию захочет ли кто-нибудь впредь как самого себя мыслить «бога»?
Литература
1. Г.В.Ф. Гегель. Феноменология духа. Гл. 3. Сила и рассудок.
2. М. Хоркхаймер, Т.В. Адорно. Диалектика просвещения. М. 1997. С. 46.
3. М. Рыклин. Нетки в зеркалах. //Маркиз де Сад и XX век. М. 1992. С. 7.
4. Ж. Делёз. Представление Захер-Мазоха. //Венера в мехах. М. 1992. С. 276, 310.
5. Ф. Гваттари, Ж. Делёз. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М. 1990. С. 36.
Сила совместного воображения[3]
Мир людей в целом составляет более или менее «твердая» воля к взаимо-представлению и взаимо-действию. Направленная деятельность по подавлению или продлению воли ближнего сказывается на постоянстве и изменении мира, то есть приемлимости и недолжности его образа, удержание которого зависит от образованности самосознающего «Мы» (в отличие от «мы», выступающего лишь в качестве объекта даже для самого себя) в смысле последовательного образования «нашей» воли. Практическая философия «мы» обращала внимание на волевой характер воображения в отличие его от мышления, но не связывала это со степенью тварности (или материальности) объектов обеих функций – воображения и мышления. Если принимать во внимание непрерывность процесса творения, то образ уже представляет собой определенную стадию воплощения идеи, поэтому идея возникает сама собой, а проект требует работы. Другими словами, философия по существу асоциальна, тогда как социальная философия занята социальной адаптацией мышления о мышлении и для нее важно заполнить понятийный промежуток между идеей и образом, найдя сответствующее «наше» усилие.
Оставаясь людьми, мы ничего не знаем и не можем знать, кроме мира людей, или человеческого общежития. Отсюда все старания вообразить нечто сверх-человеческое, неизбежно одинокое. Однако духовная интуиция всегда говорила о том, что лишь образ Бога есть «я», подобие же Бога суть «Мы»-соборность, отрефлексированный образ «нашего» мира, удерживаемый обращенным к Богу «мы» и, тем самым, возвращающим Ему мир. Поэтому образ мира понимается двояко – в отрицательном и положительном смысле – как пустыня и как плерома. Безусловно, даже в соотношении мира, как такового, с самим собой работает принцип построения образа – выделение чего-то одного на фоне чего-то другого – поэтому самосознание «Мы» есть прежде всего самосознание образное, постепенно образующееся в сплошном потоке общего сознания времени. Но иерархия «я-мы-Мы» держится на понятийном уровне; при попытке же феноменологического обследования предполагаемой или утраченной телесности мы сталкиваемся с замыканием герменевтического круга, где «Мы» возникает парадоксальным образом не столько в момент произнесения «Ты», сколько в момент волевого произнесения «Я».
Из внутреннего замкнутого круга «мы», где каждый отсылает призыв к «ним» к другому, необходим волевой выход – создание точечного акта «нашей» воли посреди более или менее распределенного «Нашего» сознания. Более того, контакт должен быть не абстрактным, но конкретным, представляя образ желаемого взаимодействия, не допускающий трактовок или домыслов. Давно замеченная поверхностность влияния людей друг на друга в современном мире вызывается не столько непривычно все большими объемами информации (образования), сколько все более привычно сужающимися рамками трансформации (преобразования). Но всякая интенциональность по существу связана с временем и образом, поэтому основа волюнтаризма в многомерном времени при несогласованной картине мира оказывается весьма шаткой до тех пор, пока она не скрепляется любовью, «нашей» по самому определению. Феноменология социальных устремлений должна служить дескриптивным мостом припереходе от субъективной логике к социальной – сперва психологии, потом логике. Существенно, что до сих пор феномен «нашей» воли остается лишь временно-воображаемой, но не реально-временной структурой.
Волевое начало вообще вынесено из противоречия разума и тела, как это нагляднее всего явлено в перепитиях социальной неадекватности. Общая воля способствует воплощению одних прообразов в обществе и отбрасывает другие, обращая их к оформлению личной жизни своих носителей. «Наша» воля, по мере своего возрастания, культивирует чистоту притяжения отдельными умами заведомо сообщительных прообразов, или сообразующихся с общим ходом вещей. Удержание понятий единого и многого в снятом виде за пределами чистого мышления должно означать пустотность социальной формы, ее динамичность. Если мы будем настаивать на равноценном внимании к двум объектам в сознании, наши встречи с людьми в этом мире будут носить характер столкновения. Тогда как попеременное проведение работы с близкими объектами равнозначно последовательному преобразованию одного и того же объекта и оставляет пространство для другого субъекта – для отличной от нашей собственной работы с «нашими» я-образами.
На самом деле в совместном пребывании всегда существует проблема наложения динамических образов. Обратимся к предпосылкам социализации абсолютного выбора пути к Богу. Действительность отношений с Господом и ее очевидность для человека создается таким атрибутом Господа, который носит Его имя. Обращение к Богу, как самодостаточный акт, преодолевает обращение к представлению о Нем, тем не менее на духовном пути каждого человека единению с Господом предшествуют отношения с Ним. Образуется та выделенность Бога во всем Его присутствии, или образ Божий, которая вообще допускает осознание реальности Личного Бога. Однако прежде приходится разбираться в хитросплетении свободы и предопределенности в выборе образа Бога Живого. Связь имени и образа Божьего актуальна до выбора, поскольку Имя, приемлимое для Господа в социальном ритуале, и имя самого Господа смыкаются друг с другом в образе конкретного Бого-воплощения.
Оставив в стороне вопрос о том, является ли Господь социальным феноменом, а откровение – социальным фактом, заметим, что выбору имени и образа Бога предшествует отчетливое осмысление человеком сферы своего влияния и ответственности в мире, прививающее вкус к имени и образу вообще. Мы не выбираем способ связывания имени и образа и даже не осознаем его, часто до самого конца; мы просто выбираем образ сразу вместе с его именем. Когда выбирается некоторое сочетание имени с образом в качестве основания собственного существования в обществе, повторение этого имени становится способом многократного очищения этого образа, поддержания его неизменным в потоке проходящих сквозь него безымянных событий. Именно это мы имели в виду под пустотностью социальной формы и хотели бы вкратце остановиться на выводах о соотносительности функций воображения и воли, сделанных в разных системах практической философии «мы».
Уже Платоном отмечалась тесная связь влечения и творческого воображения, поскольку вожделение порождается памятью. Образ чего-то недостающего для тела может быть или не быть отрицательным – считаться или нет лишенностью как формой не самого тела, но только памяти. Образ может возникать из этого отрицания или, наоборот, так никогда в него и не перейти. В дальнейшем Декарт устанавливает требование соразмерности разума и воли, чтобы избежать ошибки или вымысла. Сама воля воспринимается, лишь когда она шире разума – в представлении, где приходится делать усилие, излишнее в мышлении. По Лейбницу, наоборот, воля всегда следует за наиболее сильным представлением о добре или зле, ясным или смутным. И, наконец, для Фихте миры суть только сферы видимости индивидуальных воль. Воля как связь мышления с реальностью – не альтернатива опосредованию их воображением, но содержит его в себе, будучи самой силой воображения. И подробнее всего тема образности воления была разработана в системе Шеллинга, откуда первоначально и воспринята Гегелем.
По Гегелю чистое понятие признавания, удвоение самосознания в его единстве, появляется для него самого прежде всего со стороны неравенства. Само-замкнутость духа, смежающая господина и раба до имманентно субъективного поиска выхода в безвыходной ситуации, способна породить само-инициацию более высокой формы развития. Но подобная инициация может оказаться иллюзией, то есть полной реализацией всего сохраненного в самосознании потенциала восприятия мира. Конкретизируем этот вариант. Согласно гегелевской феноменологии единство есть раздвоение на самостоятельные образования (Gestalten) – господина и раба. Очевидно, что гештальт есть совокупность образности предшествующего сознания многообразия вещей, вобранная обратно в себя. Ожидание некоторой вещи, соответствующей сложившемуся представлению, и одурачивание (Tauschung) с ее стороны до сих пор присутствуют в самосознании в снятом виде, как чисто силовое поле напряжения между господином и рабом и как уже намеренное преобразование поместившейся в нем вещи в новой функции объекта переработки и потребления.
Скрытная восприемлимость разнообразия проявлений одной и той же вещи продолжает работать в обычных отношениях повеления и подчинения. И самым радикальным образом она задействуется при инициации, когда вся целостность доминирующего над самим собой духа начинает воображать себя. Как достоверность себя самого, достигаемая практическим образованием, так и отчуждение духа от самого себя, следующее из теоретической образованности, описываются в терминах волевых взаимодействий. Но в одном случае воля еще тесно связана с вожделением, поскольку она только что обособилась от него, – и постольку она делает сознание несчастным. Тогда как в другом случае воля вырабатывается в борьбе более высокого порядка – не за признание сознания самосознанием, а за просвещение духа. Завершается последняя деятельность также негативно – впервые испытанным ужасом абсолютной свободы.
Сравнивая движение фигур и жесткую детерминацию со стороны фундаментальных символов, позднейшие мыслители предостерегали от вполне определенной опасности эклектики, которая заключается в признании взаимо-дополнительности чего-то осознанного и всего неосознанного. Само-отрицание образности и есть та вибрация, в унисон с которой должна резонировать хорошо настроенная практическая интуиция, чтобы сохранять способность к само-инициации, или к развитию внутренних отношений «Мы» в социальной среде «мы».
Сверх-бог и материализация сознания[4]
Объявленная Ницше смерть Бога, по видимому, в чем-то состояла, была ли она предвосхищена или состоялась, но во всяком случае она была чрезмерно истолкована самим вынесенным суждением. Дальнейшее избежание посмертного обетования заключалось не в том, что Бог окончательно умер из человека или, совсем наоборот, по направлению к нему, но в замалчивании завышенной способности Бога превосходить Самого Себя, а именно, умирать. Другим «я» для сверх-человека, ибо он нипочём не хотел бы стать и тем более остаться человекобогом, является не богочеловек, но сверх-бог. В предпосылках заранее остается неясным, отличается по существу заверение в исконной первичности материи от возвещения искомого плотского бессмертия, или это только два подхода к прознанию о вечной смерти в структуре того, что человек пытался называть Богом. Сверхчеловек не одинок, ибо его воля к власти не могла бы удовлетвориться преодолением человеческого и даже покорением божественного, ведь последнему присуще смирение, – вызовом для него становится выход из отношений со сверх-богом. Материализм не знает дилеммы между духовной реальностью и мыслительной конструкцией, – ведь для него обе почти одинаково не существуют, – поэтому не столь важен относительный статус противостояния инаковости инакового (ино-человека и ино-бога), сколько взаимность этой рефлексии: удается ли им вообще отличаться друг от друга и обрести хотя бы некоторое восприятие друг друга? Отношение неравенства, или господства-и-рабства, схватывается в единстве про-феноменологического «Мы», в имманентной альтернативе которого избирается обновление смысла достоверности и недостоверности самосознания, то есть само-порождение несамо-достаточности.