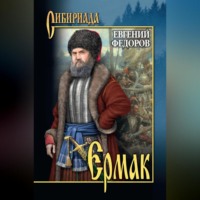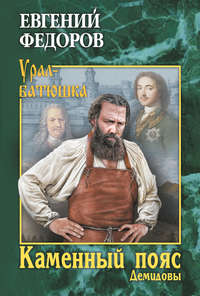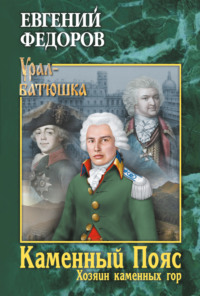Полная версия
Каменный Пояс. Книга 2. Наследники
– Фу-ты! Пес тебя возьми! – парень испуганно глянул в темь.
Наутро, не выдержав тяготы, стосковавшись по семье, сбежал дородный богатырь Алексей Колотилов. Недалеко ушел горюн, демидовские заставы перехватили беглого. Приказчик Селезень с заводскими стражниками пригнал Алеху в курень. Тут его раздели донага и прикрутили к лесине. Тучи комаров налетели на живое тело, жалили, наливались кровью.
Стражники намочили в ржавой воде сыромятные ремни и немилосердно отстегали его.
5Ивашка Грязнов затаил жгучую ненависть к мастерку. По его вине погибал добрый мужик Алексей Колотилов. После отъезда стражников горбун схватил палку и стал добивать истерзанного. Коваными каблуками он изломал ему грудь. Теперь Алеха лежал у костра и сплевывал кровь. Жигари из жалости ходили за ним. Но всем было понятно: не встать больше Алехе на ноги – угасал мужик.
Все нутро горело у Ивашки. Последние дни бродил он как в тумане. Скрипучий голос мастерка бередил его душу. Незримо крадучись, ходил работный следом за своим ненавистным врагом. Подолгу, затаясь, просиживал он в кустах, подстерегая Жабу. Не раз ночью кабанщик подбирался к его землянке, насторожившись, прислушивался к шорохам; из логова горбуна доносился лишь звучный храп.
«Спит, кровосос! Нешто войти и разом порешить мучителя?» – думал он и весь дрожал от темной мысли.
С болота обдавало гнилой сыростью, туман неслышно тянул сырые мокрые лапы. Кабанщику становилось страшно.
Истомленный душевной борьбой, он медленно отступал от землянки куренного. Глухой полночью на лесосеке кричал зверь, ухал филин на болоте, а Грязнов не спал, лежал, разметавшись на земле, широко раскрыв глаза.
«Так пошто я хожу следом, ежели не поднимается рука на гада?» – спрашивал он себя.
Между тем урочное время подошло к исходу. Отощавшие, измотанные непосильной работой, сибирские приписные пережгли все заготовленные поленницы. Однако долгожданная радость не пришла в курень. Жигарей донельзя истомил голод, вся припасенная домашнина давно иссякла, мужикам приходилось подмешивать к мучице толченую кору, добавлять мягкую глину и этим подпеченным месивом набивать чрево. Не брезгали жигари и палыми конями. От тягот и голода в лесном курене возникли хворости, больные маялись животами. А впереди предстоял дальний путь. «Кто знает, придется ли дотянуть ноги до родного погоста?» – с тревогой думали приписные.
А мастерко Жаба шмыгал по куреню, по-своему озабоченный.
– Погоди, варнаки, радоваться, работенка ведь не сдадена! – каркал он. – Может, ни я, ни старшой еще не примем ее. Это как нам поглянется!
Однажды, как всегда, после ужина горбун подошел к кострищу и подсел к старикам. Речи его внезапно изменились: на сей раз он не грозился, а шутками и прибаутками напрашивался на мзду.
– Это верно, что туго вам в лесу доводилось, братцы! – елейным голосом затянул он. – Но то помните, что за битого двух небитых дают. Первая указка, слышь-ко, кулак, а не ласка…
Лето клонилось к ущербу, призадумался лес. Птицы покинули гнездовья, летали стаями – приучались к дальнему пути. Тосковали мужики: «Ушли из дома на Еремея-запрягальника, как там обошлись с пахотой? Знать, осиротевшим лежит поле?» Эти думки, как ножом, полосовали сердце. Угрюмые и несловоохотливые, сидели они у огня. Поверху шебаршил гулевой ветер, слетал вниз и упругим крылом бил в костер. От огня сыпались искры, взметались жаркие языки пламени. Под кустом, освещенный огнем, лежал исхудалый Алексей Колотилов, руки его вытянулись, высохли. Задыхаясь от кашля, он тянулся к теплу. Большие страдальческие глаза укоряюще смотрели на Жабу.
– Через тебя гибну! – пожаловался он.
Горбун не отозвался, залебезил перед стариками:
– Эх, горюны вы мои, горюны, о чем призадумались? По дорожке, поди, стосковались, а то забыли, что не подмажешь колеса, не поедешь…
Мастерко прижмурил наглые глаза, усмехнулся.
– А где ее взять, подмазку? – отозвался старик-жигарь, задумчиво глядя в огонь.
– Денежка – молитва, что острая бритва, все грехи сбривает! – гнул свое горбун.
– Уйди! – крикнул Алеха, и на губах его показалась кровавая пена. – Уйди, дьявол, мало тебе наших мук! – Глаза истерзанного лесоруба зло уставились на ненавистного мастерка.
– Ой ли! – не сдался, ехидно ухмыльнулся горбун. – Кто там еще голос подает? Грех в мех, а сам наверх! То разумей, валет, захочешь добра, посей серебра…
– Ты вот что! – поднялся из-за костра седобородый степенный жигарь. – Впрямь, уйди от греха подале! У всех уже на сердце великая смута накипела…
Он не докончил, глаза его зловеще вспыхнули. Чтобы скрыть свое волнение, он отвернулся и пошел прочь. Пораженный страстной ненавистью, горбун отшатнулся.
– Ну и народ! Ироды! – покрутил он головой. – До чего жадные, по алтыну с рыла им жалко. Ишь как!.. – Он юркнул на тропку, укрытую молодыми елями, и засеменил к себе в землянку.
На другой день приехал Селезень с дозорным. На нем была новая поддевка и шапка с малиновым верхом. Налетевший ветерок парусом раздувал его черную бороду. Шел приказчик чуть подавшись вперед животом, за ним топал низкорослый щербатый дозорщик. Словно из-под земли перед ним вырос мастерко и засеменил рядом.
– Ну как, покончили жигари с работенкой? – весело спросил его Селезень.
Приблизясь к приказчику, Жаба что-то зашептал ему. Мужики стояли тихие, молчаливые. Селезень окинул их пытливым взглядом.
– Не тяни, показывай работу. Кто тут у вас за артельного? – спросил он.
Вперед вышел степенный старик и поклонился приказчику.
– Нет у нас артельного, побили его, батюшка, теперь исходит хворью. Один тут и есть за старшего. Он, батюшка! – приписной показал на мастерка.
– Добро! – обронил Селезень и бодро зашагал вдоль угольных куч.
Кругом простиралась лесная вырубка да мелкие изломанные кусты. У ручья в молодой поросли паслись кони, стояли телеги.
– В дорогу, стало быть, собрались, – усмехнулся приказчик. – А с мастерком разочлись? Кто за вас первый хлопотун тут? Мастерко! – по-хозяйски сказал Селезень. – Кто за вас передо мной в ответе? Мастерко!
Лохматые, оборванные приписные с обнаженными головами тянулись за приказчиком.
– Так, батюшка, мы свое отробили! Вот и уголек выложили, – засуетился старик.
– Уголек выложили! – подделываясь под тон, сказал приказчик и схватил саженку. – Добро, ой добро, хлопотуны-работнички! Сейчас прикинем, сколь сробили… А это что? Пошто уголь сырой? – вгляделся он в кучи.
– Так мы гасили. Просохнет ноне! – встревожились мужики. – Так и должно быть!
– Сам знаю! – вдруг остервенился приказчик. – Кто вам дозволил? Как на завод ставить эту грязь? – Он ткнул ногой в кучу. – Сказывай, варнаки!
Селезень выхватил из рук мастерка плеть, темной тучей надвинулся на жигарей. За спинами их притаился Грязнов. Кипел он, но сдерживал себя. Плечи парня за лето раздались вширь, лицо окаймляла золотистая бородка. В больших серых глазах погас озорной огонек.
«Покричит, полютует кровосос да угомонится, а там и домой двинем!» – успокаивал себя кабанщик.
Но не тут-то было: Селезень топнул ногой и закричал мастерку:
– Работа не доделана, зря меня встревожили! Кучи не так выложены, притом маломерки. Уголь мокрый, не просушен! Сечь варнаков! Дожить брюхом на пень и сечь! До той поры сечь будем, пока брюхом пня до земли не загладят! Слыхали, варнаки? – Он свистнул плетью. Однако накинуться на мужиков не посмел, круто повернулся и заторопился к бегункам. Мастерко остался на порубке. Уезжая, приказчик крикнул:
– В поучение пусть корчуют пни! Ныне оборуженных пришлю, порядок тут навести! – Он натянул вожжи и огрел плетью коня. По елани загремели колеса; Селезень умчался в Кыштым.
Встревоженные, растерянные приписные вечером собрались у костра: «Как тут быть? И без корчеванья в могилу ложись и умирай!» Над лесом навалилась тьма, неуемно гудел ельник. Опустив головы, хмурые сидели жигари в глубоком раздумье. Костер то вспыхивал, то мерк. Раскаленные угли подергивались синевой.
– Что же делать нам, братцы? – вымолвил, окинув всех взором, старик.
Никто не отозвался. Молчал лес, потрескивал огонь. Среди наступившей тишины, оттуда, где всегда лежал Алеха, раздался голос:
– Бежать, братцы, надо!
Жигари оглянулись на говорившего. По желтому истомленному лицу Алехи ползли слезы.
– Богом заклинаю вас, братцы, не покидайте меня тут…
Он поник головой и, замолчав, опустился на лесное ложе.
– Пустое он мелет! Ну куда вам уходить? Аль удумали быть битыми? – раздался вдруг тихий вкрадчивый голос. Из кустов показалась косматая голова мастерка, злые глаза его пристально разглядывали мужиков. – Ну куда вы убежите? – нагло переспросил он. – Кругом дозоры. Я вам сказывал, что будет, а вы не послухали, ась? – Он ящеркой выбрался из кустов и отряхнулся.
– Оборотень! – с презрением крикнул Алеха. – По кустам, кикимора, ползаешь, подслушиваешь!
В эту минуту шумно раздвинулись кусты, из них вышел Ивашка и жилистыми руками сгреб Жабу.
– Ты чего тут, зверюга? – Парень смертной хваткой прижал мастерка к себе.
– Братики, ратуйте! – заверещал горбун.
– Молчи, поганец! – Сильным махом кабанщик поднял его над головой и кинул в костер: – Гибни, тварь!
С треском взметнулись золотоперые искры. Над лесом взвился дикий вой. К темному небу поднялся яркий пламень; охваченный огнем и гарью, из него выкатился воющий клубок и помчался к болоту.
– Утонет, окаянный! Что ты наделал, парень! – укоряюще посмотрели односельцы на Грязнова.
– Туда ему и дорога! – переводя дыхание, отозвался Ивашка и заторопил народ: – Живо, братцы, собирайтесь в дорогу! Уходить надо!..
6В непроглядную темень по глухой лесной дороге тронулся мужицкий обоз из демидовского куреня. Торопились приписные уйти от напасти. Еле тащились истомленные кони. Как ни скрытно уходили жигари, однако на реке Кыштымке у брода встретила их демидовская вооруженная ватага. Крестьяне двигались мрачные, решительные, держа наготове топоры и дреколье. Заводские дозорщики полегли за рекой и перегородили дорогу. То ли они устрашились грозной мужицкой силы, то ли от Демидова приказ был дан не дразнить первых сибирских приписных, но только они вступили с ними в затяжные переговоры. Сами же той порой послали гонца с вестью в Кыштым.
– Куда побегли, родимые? – закричал из-за реки чубатый казак, старшой дозора. – Вертайтесь лучше, пока всех не перестреляли!
– А у нас топоры и дубье, только суньтесь! – откликнулся Грязнов.
– Демидов сюда драгун пришлет, порубят вас! – грозил казак.
– Лучше смерть, чем демидовская каторга! – огрызался Ивашка. – Сторонись, лапотник, дай дорогу!
– Чалдоны! Пимокаты! – надрывался чубатый.
– Чалдоны, да ядрены! – не унывая, кричал кабанщик. – А ты кто? Отец твой онуча, мать тряпица, а ты что за птица?
Над лесом поднялось солнце, засверкали росистые травы. Над рекой растаял легкий туман. Демидовская стража поглядывала в сторону завода, ждала вестей. Приписные раскинулись табором у реки. Исхудалый остроносый Алеха лежал на возу и задумчиво смотрел в синюю даль. Над головой раскинулся безоблачный простор; по земле пробежал теплый ветер, покружил над рекой, взрябил воду и пронесся дальше…
«Кабы домой, на родную Исеть!» – с тоской подумал Алеха и поглядел на дорогу. Там в клубах пыли скакал всадник.
– Братцы, из Кыштыма мчит! – крикнул Алеха.
Мужики повскакивали на возы. У всех была одна думка:
«Что-то теперь будет?»
Затаив дыхание, они следили за быстрым конником. Вскочили и дозорщики, нетерпеливо поджидая своего.
Спорым, широким махом несся башкирский конь. Проворный всадник с разгона молодецки осадил коня на крутом яру. Скинув с мокрого лба шапку, он закричал мужикам:
– Братцы, жалует вас Никита Акинфиевич дорогой! Просит только в обереженье покоя выслать старшого. А как вышлете, тогда идите с богом, мы не помеха!
В крестьянском таборе шумной волной прокатилось оживление. Алеха умиленно поглядел на вестника, глубоко вздохнул:
– Слава те, господи, доберусь до родных мест! – Он обежал табор глазами, обронил: – Кого ж слать к Демидову, как не Ивашку, смел, упрям и умен он!
Всем по душам пришлась эта мысль. Хоть и жалко было парня, но степенные бородатые сибиряки поклонились Грязнову:
– Знаем, что просим тебя на горесть, не верим мы заводчику, но как быть, если беда за горло хватает? Пострадай за мир, парень!
Тяжело было землякам расставаться с проворным и смелым парнем, но тянулось сердце к родному дому, к милому полю, к привычной голубой речонке. Понял Ивашка, что творится у приписных на душе, вздохнул и поклонился, миру:
– Быть по-вашему, отцы! Один-одинешенек живу я, как трава при дороге, никто по мне не заплачет. Не забудьте и вы меня в случае беды!
Приписные сняли шапки и долго глядели, как он переходил вброд речонку, как отдался демидовским холопам. Те усадили его на коня и повезли в Кыштым.
Демидов сдержал слово: за уходящими приписными не было погони. Позади лежала пустая темень, ненавистный завод, и оттуда все глуше и глуше доносился сторожевой собачий лай.
Связанного кабанщика заводские приказчики приволокли к Демидову. Парень был высок, силен. Оглядывая его решительное лицо, золотистую бороду, Никита, нахмурив черные брови, спросил:
– Это ты поднял народ?
– Я! – бесстрашно ответил Ивашка.
– Храбрый больно! – недобро усмехнулся хозяин. – До сей поры рогом землю роешь!
– Пошто сверх положенного срока пахарей держишь? Свои нивы осиротели, поджидают трудяг! – Парень не опустил смелых глаз перед Демидовым.
Никита взглядом подозвал Селезня.
– Сего молодца убрать на шахту! – указал он на Ивашку. – В силе холоп, только руду ему и ломать!
– Не смеешь! – рванулся к заводчику Грязнов, но крепкие руки приказчиков удержали его.
Хозяин уперся в бока.
– Демидовы все смеют! – сказал он холодно. – Отвести его на рудник!
На другой день побитый, притихший Ивашка попал в шахту.
Глава седьмая
1Люди прокляли это место: кругом взгромоздились голые скалы, в каменистых трещинах нашли себе приют лишь плакучие березки да горькие осины. Под угрюмой скалой – нора, по ней каждый день, ссутулясь, пробирались рудокопы к своим забоям. Среди нависших красно-бурых глыб кажется Ивашке, что его навеки схоронили живьем глубоко в черную бездну и ему никогда-никогда не выбраться из нее. Трепетный свет лучины слабо освещает уголок каменной гробницы; неровные стены, изъеденные бугры, по которым неслышно сочится подземная вода. Кабальному стало страшно, в тоске сжалось сердце.
– Гляди, как вода камень точит! – сказал он старику-рудокопщику. – Отколь только она взялась тут?
– Это мать сыра земля по нас плачется. Томимся мы тут на работе непосильной, голодуем, холодуем, она, сердешная, и жалится. За нас ей скорбно. Слезы точит она, точит…
Горщик смолк, пристраиваясь в забое. На мгновение наступила гнетущая тишина, в густой тьме, отмечая вечность, одна за другой со звоном монотонно падали капли в невидимую лужицу. Старик положил рядом кайло и спросил Ивашку:
– Ты, парень, видать, впервые под землей? Ничего, привыкай, ко всему привыкай: к горю, к кручине, к слезам земным! Бывает, что и людей заливает тут… Как звать-то?
– Иваном.
– Хорошее имечко. А меня кличут Данилкой. Чуешь, парень?
– Чую, – отозвался Ивашка, согнулся и полез в забой.
Весь день он ожесточенно бил кайлом в кремнистую породу, бил неотступно, упрямо, словно хотел пробить себе дорогу из могилы. Скинул намокшую от едкого пота рубаху. Но и жаркая работа и глухой стук кайла не могли отвлечь его от мрачных дум. Слишком грозен и душен мрак. Крохотный глазок огня сиротливо томился среди каменных громад, предвещая беду. Железными острыми изломами поблескивала растущая груда руды. Кто-то черный, невидимый, с хриплым дыханием бросал ее в тачку и отвозил. Время тянулось медленно. «И когда наступит конец этому проклятому колдовству? И выберусь ли когда-нибудь на волю?» – думал Ивашка.
Усталость, как яд, разливалась в натруженных членах, в крови. Оцепенение леденило тело. Изломанный, ослабевший забойщик к концу дня выбрался из шахты. Он бросил наземь кайло и упал на траву. Грудь не вмещала хлынувшего могучего потока свежего воздуха: рудокопщик задышал часто-часто, закружилась голова, а глаза не могли оторваться и наглядеться на мир, на заходящее солнце, на широкую зеленую понизь, на которой стрижи с веселым писком чертили вечернее небо.
– Ну, вставай, парень, пора! – раздался над ним знакомый голос старого горщика.
Черные, угрюмые, рудокопы тронулись друг за дружкой к поселку. Ивашка пошел следом. Впереди и позади кабальных шли рудничные мастерки.
В темнеющем небе зажглись первые звезды. Над казармой редкими витками тянулся дымок – готовили ужин. Где-то поблизости в чахлых кустах в сумеречной тишине прозвучало ботало, одинокая буренка неторопливо брела к человеческому жилью.
– Эх, и жизнь горькая! – вырвалось у старика Данилки, и плечи его опустились еще ниже…
День за днем потянулась маета подневольного рудокопщика Ивашки Грязнова. И каждый раз перед спуском под землю тоскливое чувство сжимало сердце горщика; из черного зева шахты всегда тянуло леденящим холодом. В эту темную сырую пропасть нехотя уходили люди. Ивашка огрубел, мускулы стали словно литыми; в лицо въелась порода, только бородка гуще закурчавилась да на лбу пролегли глубокие морщинки от дум. Ночами в тесной рабочей казарме в спертом воздухе рудокопы на короткое время забывались в тревожном сне. Многие бредили, и во сне не покидали их муки, тяжелый кашель колыхал грудь.
Ивашка приглядывался к горщику Даниле. Благообразен, терпелив старик. Он, как пень, оброс мохом, могучими узловатыми руками вцепился в землю.
– Откуда ты? – полюбопытствовал молодой рудокоп.
– С Расеи беглый. Убийца, свою женку порешил и сюда на Камень хорониться прибег. Вот и ухоронился в демидовской могиле. Горюном стал! – охотно поделился с Ивашкой старик. Речь его была спокойна, незлобива, а глаза ясные, как небо в закат.
– За что ж ты ее? – помолчав, спросил парень.
– Бабу? За измену, не стерпело сердце, пролил кровь внапрасне!
И то дивно было Ивашке, что, неся расплату за кровь женки, никогда Данилка не клял женщин, не ронял про них грязных слов.
– Женщина велика сердцем, а мужик перед ней слабодушен. Каждого человека мать родила. Разве можно хаять родную мать? Неуместно, парень, дурное слово про родимую плесть… Бывает и так – добрая баба и телесной силой мужика превышает… Скажу тебе один сказ…
Старик приподнялся на жестком ложе.
– Уральскую бабу не возьмешь ни силой, ни страхом. Ее вода не берет и зверь обходит. На Камне баба прошла великое горе и стала крепкой, особых статей человек. Когда-либо слышал про камскую Фелисату? Нет? Эх, жалость! Великая атаманша была, слухом наполнила горы…
Горщик примолк, нахмурился, приводя в порядок мысли, и продолжал свою быль:
– Давным-давно на лесном Усолье жил один поп, было то назад лет сто, а может, и поболе. Женился этот поп на своей работнице, из Орла-городка пошла она к нему в услужение. Девка была кремень, красивая, глазастая, а силы такой, что раз переоделась парнем да на бой с солеварами вышла. Тогда в Усолье по праздникам кулачные бои бывали. Пристала она к партии, которая послабей, и всех покрушила. Увидел это поп и прилип, женился на ней. Человеку все мало, бес его на ссору толкает, часто поп забижал женку. Только терпела-терпела Фелисата, да размахнулась и ушибла попика, угомонила навек. Ну, похоронили попа с честью, хотели было Фелисату взять, не далась, кто с такой силищей справится? Тут стрельцов пригнали, сонную забрали, посадили… Что ты думаешь? Она, слышь-ко, в ту же ночь высадила ворота в остроге, сама ушла и всех колодников за собой увела. Вот тебе и баба!..
Данилка закопошился в своем тряпье, на стене качнулась его огромная лохматая тень. В оконный проруб заглянула робкая звездочка. Ивашка торопил:
– А дале что?
– Потерпи, дай помыслить. – И снова зажурчала неторопливая речь горщика: – В ту пору на Каме у самого Усолья стояла большая строгановская ладья. Села Фелисата с колодниками в ладью, отвезла их в Орел-город и отпустила на все четыре стороны. «Идите, братцы, промышляйте гулящим делом. Кладу вам завет: воевод и купцов хоть в Каме топите, а мужика не трогать! А кто мужика тронет, того не помилую!..» Сказала и ушла. А в Орле-городке подманила она двух сестер своих, девки могутные, в красе орлицы, перерядились парнями, раздобыли доброго оружия и стали по всей Каме-реке плавать… А где, слышь-ко, узнает, что есть сильная баба или отважная девка, сейчас Фелисата к себе сманит. Так и собрала она большую да грозную шайку, баб с полсотни у ней было. Нашли они себе пещеры потайные, изукрасили персидскими коврами да дорогой утварью и положили промежду себя зарок, чтобы добычу делить поровну и в стан свой мужиков не пускать, жить без соблазну. Э, вон как!.. Что-то бок ломит, недужится мне, – вздохнул старик и заворочался в своем логове.
Огонек в каганце то вспыхивал, то погасал. Робкая звездочка заметно отошла от оконного проруба. Ивашка сидел на жестких нарах, повесив голову.
– Ну что загорюнился, бедун? Слушай дале! – ободряюще сказал горщик и продолжал свою бывальщину: – А в той поре, слышь-ко, из Сибири караван с царским золотом по Каме шел. Проведала о нем Фелисата и на легких стругах кинулась по следу. Под Оханском нагнала, перебила всех стрельцов, что с караваном шли. Из Оханска поспешила царским слугам помощь, Фелисата помощь отогнала, а оханского воеводу на берегу повесила. Забрала награбленное и ушла в свои потайные пещеры… Пять годков бушевала Фелисата, ни купцу, ни царскому приставу ходу на Каме не было. Ежели кого начальство либо хозяева обижали, сейчас к ней шли. Она уж разбирала спор по всей правде. Одного князя как-то за обиду крестьянскую высекла розгами, а кунгурского купца, так того вверх ногами повесила. В Сарапуле вершил всем воевода один, ладился поймать ее. Все своим служакам, приказной строке, похвалялся: «Настигну да запру ее в клетку железную!»
Прослышала Фелисата похвальбишку воеводы и сама средь темной ночи наехала к нему. «Ну, запирай, – говорит, – посмотрю я, как ты с бабой один на один совладаешь».
А у воеводы от страха язык отнялся. Только потому, слышь-ко, она его и помиловала. Раз узнала она, что на Чусовой проявился лихой разбойник и себя за ее выдает. А разбойник-злодей этот больно простой народ обижал. Не стерпело ретивое, послала она к нему свою подручную: «Ой, уймись, лих человек, пока сердце мое злобой не зашлось». А подручная-то на беду была, слышь-ко, красавица писаная, пышная да синеокая. Разбойник не пожалел – обидел девку. Тут и поднялась сама Фелисата, повела за собой бабью вольницу и вызвала его на открытый бой. На Чусовой они и дрались. Два дня крепко бились, вода заалела от крови; на третий день одолела она злодея. Тогда собрала на берегу всех крестьянишек, кому разбойник обиду нанес, велела принести на широкий луг большой чугунный котел, связала поганца и живьем сварила его в том котле. И стали все ее бояться и уважать. И я там, слышь-ко, у ней был, мед пил, по усам текло и в рот перепало! – неожиданно оборвал свою байку старик и улыбнулся глазами. – Чур, меня ко сну клонит, старые кости гудят…
– Стой, погоди! – схватил за руку горщика Ивашка. – Не увиливай, скажи, что стало с Фелисатой-девкой?
– Что, хороша баба? – ухмыльнулся Данилка и огладил бороду. – Людская молва сказывает, под старость покаялась девка, в Беловодье ушла, там монастырь поставила и сама игуменьей стала. Другие гуторят, на Волгу ушла, Кама тесной ей показалась. А кто знает, что с ней? Может, и сейчас жива, такие могутные, слышь-ко, по многу веков живут… Ага! – кивнул старик. – Ишь ты, сверчок заиграл!..
Он улегся, укрылся тряпьем и быстро отошел ко сну, а Ивашка все сидел, думал, на сердце его кипела неуемная ненависть к Демидовым, искала выхода. Огонек мигнул и угас, в подполице заскреблась мышь, а думки, как тучки, бежали одна за другой, тревожили сердце. Полночь. На заводе ударили в чугунное било. Звук, как тяжелый камень, упал во тьму, и от края до края ее побежали круги… За оконным прорубом задернулся синий полог неба. Из темных углов казармы вылезли неясные тени. Горщик отвалился на спину и уснул…
2Горюн Данилка занемог, старость да каторжная работа сломили крепкую, неподатливую кость. Горщик слег, не вышел на работу. Приказчик Селезень доложил о том Никите Акинфиевичу. Демидов нахмурился, сам наехал в рабочий закуток. Горщиков выстроил в ряд. Хозяин пытливо оглядел их.
– Притащить Данилку!
Два досмотрщика приволокли старика. Горщик опустился перед хозяином на колени.
– Почему на работу не вышел? – грозно спросил Никита.