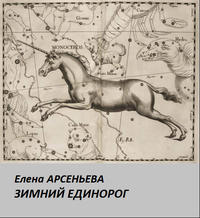Полная версия
Моя подруга – Месть
– Да ты же ей ногу сломал, мафик поганый, своей иномаркой!
Марьяна попыталась приподняться, но в глазах все поплыло, и она снова откинулась навзничь, тупо повторяя: «Ногу сломал… ногу мне!..» Но даже эти страшные слова не могли прервать оцепенения, пока вдруг что-то ледяное, отрезвляющее, не легло на лоб и поплыло по вискам, потом нежно, влажно запахло талым снегом, и она близко-близко увидела чьи-то огромные, бело-голубые от ужаса глаза на бледном лице, чуть заросшем рыжеватой щетиной.
– Ты как? Жива? – прошептало лицо, и в глазах плеснулась такая неподдельная жалость, что Марьяна невольно всхлипнула. – Больно? Ой, Господи, ну как же так…
– Помогите мне встать, – прошелестела Марьяна прыгающими, непослушными губами, вновь пытаясь приподнять голову, но незнакомец погладил ее перемешанные со снегом волосы:
– Тихо, лежи. Нельзя вставать. Я ведь и правда, кажется, тебе ногу сломал…
– …мафик поганый своей иномаркой, – как попугай, продолжала Марьяна, вдруг забыв о боли: незнакомец-то незнакомец, но она где-то видела это лицо, видела, точно!
– Слушай, – торопливо прошептал «мафик», – если сейчас налетят менты – мне все, полная пропасть. Опаздываю смертельно, срывается контракт с арабами, а главное, кому вообще привод нужен? Только не мне!
Задумался на миг, прикусив губу, а потом выхватил что-то из-за пазухи, сунул в руку Марьяны, стиснул пальцы.
«Что-то» хрустко, бумажно зашуршало.
– Вот, у меня с собой только штука баксов, было побольше, да я сыну кое-что купил… извини, не знал ведь, что понадобятся. Возьми их, а?
Рыжеватые ресницы часто замигали, и Марьяна с изумлением увидела, как на светлые глаза наплывают слезы:
– Hе затевай дела, а? Скажи, ничего не успела разглядеть, не хочешь человека гробить. Мне никак нельзя с ментами сейчас. Понимаешь? Ну, прости, а?
И, видимо, уловив в лице Марьяны отсвет сочувствия, а скорее, полнейшей неспособности оценить ситуацию – что в прямом, что в переносном смысле, он вскочил, забежал сзади и, подхватив под мышки, выволок Марьяну на узенький тротуарчик остановки. Там прислонил к парапету, на котором громоздились фанерные ящики с полузамерзшими гвоздиками и вовсе промороженными розами. Теплые губы, остро пахнущие табаком и «Стиморолом», мазнули Марьяну по щеке, потом хлопнула дверца, взревел мотор, поплыло ядовитое бензиновое облачко…
«Стой, стой, гад! – наперебой завопили цветочницы. – Уехал! Нет, надо же! Сбил девку и уехал! Сколько говорю: хоть бы мента на этом переходе поставили, а то гляди знай: и автобусы, и машины вереницей, людям деваться некуда». – «А, мента тебе еще здесь не хватало, еще и ему отстегивай?! Но что же нам с этой девчонкой делать? «Скорую» вызвать, что ли? И в милицию надо бы… Ты номер не заметила?» – «Нет, помню, что синий «мерс». – «Дура, это «Мазда»! А гляди, у нее баксы в кулаке! Это он ей заплатил, чтобы молчала!»
Жаркая разноголосица мгновенно похолодела. Теперь Марьяна вызывала у цветочниц не сочувствие, а жгучую неприязнь. И немалое прошло время, прежде чем какая-то сердобольная душа все же вызвала «Скорую», а еще большее, конечно, прежде чем эта «Скорая» притащилась. Марьяна так замерзла и измучилась, что уже готова была почать зеленую хрустящую пачку и заплатить цветочницам за милосердие, но сделать это не дала лютая гордость, и злоба, что позволила себя купить, даже не поторговавшись, и ненависть к «поганому мафику», чем-то знакомое лицо и подернутые слезою глаза которого лишили ее сил сопротивляться. А главное – ее поддерживало воспоминание о том, что доллар ползет и ползет вверх, а значит, у нее в руках немалые деньги, которые позволят им с матерью продержаться, пока хоть кому-то из них не выплатят зарплату еще за декабрь прошлого года.
Она ни чуточки не сомневалась, что больше в жизни не увидит своего «мафика», однако не прошло и недели, как в пятую палату травматологии, куда в тот кошмарный день привезли Марьяну, ввалился огромный, как новогодняя елка, шуршащий целлофаном, благоухающий розовый букет. Потом боком просунулась золотисто-алая конфетная коробка устрашающих размеров, а следом осторожно заглянуло голубоглазое лицо. Теперь оно было чисто выбрито, но выражение имело очень странное, словно бы ошарашенное.
Обменявшись неуклюжими «как вы себя чувствуете» и «ничего, спасибо, вашими молитвами», приняв, вдобавок к гостинцам, ворох покаяний, сетований и благодарностей за молчание, Марьяна сочла, что посетитель успел разузнать у врачей о ее вполне удовлетворительном состоянии (перелом оказался закрытый, вытяжку делать не понадобилось, через несколько дней Марьяну собирались выписывать, мама уже и костыли раздобыла), а потому и пришел в такое обалдело-радостное настроение: мол, легко отделался, какой-то тысчонкою! Хотя деньги, по всему видно, у него водились. Марьяне не приходилось близко общаться с настоящими «новыми русскими», разве что по телевизору видела или, мельком, в роскошных авто, однако некий ореол больших, несчитанных денег, витавший вокруг ее гостя, ощущался сразу. Этот костюм, и башмаки, и властная энергия во всем облике, ощутимая даже в мгновения застенчивости… Честно говоря, Марьяна не держала на него зла, все-таки его деньги здорово выручили их с мамой, оказались как бы подарком судьбы! Но Марьяна давно знала, что за все такие «подарки» надо непременно платить, – на сей раз цена была, верно, определена в закрытый перелом. Конечно, судьба, в свою очередь, задолжала им с матерью, отняв отца, да столь нелепо, столь внезапно…
После этой смерти Марьяна ко многому в жизни стала относиться по-новому: расчетливо-стоически. «Баксы! Баксы!» – звенело в голове, и она спокойно вынесла почти оскорбительные подначки майора ГАИ, который очень старался заставить ее написать заявление на «бандита за рулем» – он так и выражался, ей-Богу! Для поддержания разговора Марьяна рассказала сейчас об этом своему «мафику», и тот вдруг обиделся:
– Заявление ему? Давно надо было на Свободе пост организовать: там же движение сумасшедшее, а перехода нет. Небось в лапу хотел получить! Знаете, как в анекдоте: армянскому радио задают вопрос, кто, мол, был первым гаишником на Руси? Армянское радио отвечает: Соловей-разбойник. На перепутье сидел, свистел и поборы брал.
Посмеялись.
Марьянины соседки по палате уже утолили свое любопытство: на гостя нагляделись, конфет наелись, роз нанюхались. Две уткнулись в книжки, одна задремала. Марьяна думала, что визитер вот-вот откланяется, а он все сидел да сидел, нерешительно на нее поглядывая, словно хотел что-то сказать, но никак не мог собраться с силами. Мелькнула мысль, а не хочет ли он увеличить «компенсацию», и на какое-то мгновение Марьяна совершенно серьезно углубилась в подсчеты, какова должна быть эта новая сумма, сколько у них с мамой еще «дыр» в бюджете, но вдруг, приблизив к ней лицо, «мафик» быстрым, заговорщическим шепотом спросил:
– Слушай, это правда, что тебя зовут Марьяна Корсакова?
– Правда, – недоуменно хлопнула она ресницами, – а что?
– Отца твоего, случаем, не Михаилом Алексеевичем зовут? – еще ближе придвинулся «мафик», и в глазах его блеснула такая по-детски воодушевленная надежда, что Марьяна впервые испытала жалость не к себе, а к чужому человеку, когда ответила:
– Да, его Михаил Алексеевич зовут… звали. Папа умер уже больше года назад.
Мгновение посетитель смотрел на нее неподвижно, потом, медленно отодвинувшись, крепко взялся горстью за лицо и замер.
– Ох ты, – пробормотал он. – Ох ты!
Марьяна быстро утерла слезы, неудержимо подступавшие даже при мимолетных воспоминаниях об отце, и, осторожно тронув посетителя за рукав, шепнула:
– Hичего. Hичего… Вы с отцом встречались, да? Или работали вместе?
Он опустил ладонь – глаза его были влажны – и тихо спросил:
– Hе помнишь меня, да? Я тебя тоже не сразу узнал. Вертелось что-то такое в голове, а когда фамилию твою услышал – Господи, думаю, неужели?! Hеужели дочка дяди Миши? Марьянка, да ты посмотри на меня, посмотри! Я же Виктор… Витька-Федор Иваныч!
Марьяну словно в сердце ударило. Села в постели, ощущая, как брови сложились домиком, а рот превратился в некое изумленное «о». Да неужели вот этот благополучный, преуспевающий джентльмен, сидящий перед нею, – тот самый тощий, издерганный мужичонка, который однажды безудержно плакал в палисаднике на Ковалихе, утираясь крошечным кукольным платьицем, и говорил, захлебываясь, десятилетней девчонке слова, которые и сейчас, вспомнившись, заставили ее сердце сжаться от жалости:
– Тут, Марьянка, я и купил реланиуму. Много купил! В шести аптеках. И решил завязать с этой жизнью как мужчина. Убраться в квартире, покаих нет, помыться, переодеться в чистое, принять весь реланиум – и уснуть. Даже уборку уже сделал. А тут кошка за дверью запела. Кошку-то жалко: она только с моих рук ест, у них и хвостика рыбьего не возьмет, да они и не дадут. И еще вспомнил, что ваши талоны на сахар мне в домоуправлении сунули еще неделю назад, а я так и не отдал… Словом, много мыслей дурацких приходит в голову в такой момент. Ну и упустил, упустил я момент этот, и решимость моя иссякла. Вот… снова живу! – И он горько заплакал.
Тогда он казался Марьяне если не глубоким стариком, то очень пожилым человеком, но сейчас она видела, что ему не больше сорока пяти, а в то время, значит, было около тридцати. Но уж теперь никто не решился бы назвать его просто Витькой, а тем более – тем ласково-насмешливым прозвищем, которое дал ему в былые времена Марьянин отец.
– Ох, Витька, ну и голосину тебе даровал Бог! – восторженно твердил он, забыв, что инструктору обкома партии вести разговор о вышних силах не подобает. – Ну истинный Федор Иваныч! Ну редкостный дар, всю душу переворачивает! Слушаешь тебя – и сердце само соловьем заливается!
Конечно, Федор Иваныч, в смысле Шаляпин, пел «Утро туманное» и «Гори, гори, моя звезда» басом, отец Марьяны это прекрасно знал. Но поскольку Шаляпин был его любимым, обожаемым певцом, а баритональный тенор соседа Витьки Яценко – задыхающийся, необработанный, но воистину божественно-вдохновенный – трогал его душу столь же властно, сколь и шаляпинские раскаты, Михаил Алексеевич соединил эти два имени в одно. Однако если случалось ему встречать Витьку-Федор Иваныча, когда тот по стеночке, на автопилоте, пробирался домой (в запоях скручивала его клаустрофобия, он начинал до дрожи бояться лифта и на свой седьмой этаж добирался хоть ползком, да пешком), отец Марьяны уже не разглагольствовал о сердцах и соловьях, а норовил побыстрее пройти мимо, словно бы и не замечая соседа. Впрочем, завидев Марьяну, Витька-Федор Иваныч старался подтянуться, сфокусировать разбегающиеся глаза и, мотая перед носом пальцем, наставительно бормотал:
– Не пей вина, Г-Гертруда! К-козленочком станешь! – и тащился дальше, не зная, что Марьяна с жалостью провожает его глазами. Даже с ее, детской, точки зрения Витьке было с чего пить…
Уже и спустя много лет, услышав анекдот: муж ссорится с женой и кричит в сердцах: «Кто в доме хозяин?!» – «Я, а что?» – спокойно отвечает жена. «Ничего. Я просто так спросил», – тихо бормочет муж, – Марьяна сразу вспоминала эту пару: голубоглазого, всему улыбающегося Витьку и его черноволосую, смуглую, верткую Валентину. Девчонкой она не сомневалась, что по ночам Валентина или вылетает из форточки на ведьмовский шабаш, или превращается в змею, ползает по тротуарам, жаля случайных прохожих. Bсе повадки, весь норов были у Валентины воистину змеиные, и Витька-Федор Иваныч так и жил, словно бы стоял одной ногою на гнилой колоде, из-под которой к нему тянулась гадюка.
Но удивительнее всего было то, что Валентина тоже считала себя несчастной, она не сомневалась: жизнь ее загублена мужем! Жаловалась соседкам:
– В графе анкеты «семейное положение» я бы написала: «Невыносимое!»
А недавно Валентина случайно встретила на улице свою первую любовь, еще детдомовскую (жена Витьки-Федор Иваныча была подкидышем, сиротой). Тогда ей было пятнадцать лет, а любовь закончилась ничем: Ромео упекли за грабеж в колонию. Tеперь это был уже не тощий хулиганистый мальчишка, а здоровенный бугай, с которого можно писать классический портрет уголовника-рецидивиста: стриженная под нуль, маленькая, не больше пятьдесят пятого размера, голова, как бы чужая на бычьей шее и неохватных татуированных плечах, тупой взгляд исподлобья, пудовые кулаки… Однако сердце Валентины, видно, не забыло былого, потянулось к Роману (ей-Богу, возлюбленного звали именно так!) – и немилый муж сделался ей вовсе постылым.
В ту пору в газетах еще не писали про секс, однако Валентина вполне гласно высказывалась об интимном и своими откровенными репликами склонила общественное, в смысле, соседское мнение на свою сторону, и скоро весь подъезд, а там и весь дом знал, что Витька от жены «много требует, а сам как пингвин замороженный: отвалится – да храпит; ему бы в аптеке люминалом работать, а не в койку с бабой ложиться!». В ответ на подначки мужиков, с удовольствием обсуждавших Валентинины претензии, Витька-Федор Иваныч добродушно отбрехивался:
– Пуще прежнего старуха вздурилась! Уж не хочет быть она царицей – хочет быть нормальною секс-бомбой!
Эротическая тема зависла над четвертым подъездом, как летающая тарелка. Все подробности наличия или отсутствия интима между Витькой и Валентиной немедленно становились общим достоянием (дом заселили недавно, но все переехали из бараков, общежитий и малосемеек, старая закваска сильна была в характере: соседей не чурались, радость-горе были одни на всех). Как ни отплевывалась от сплетен Ирина Сергеевна, они достигали не только ее ушей, но и Марьяниных, активно пополняя девчонкино образование.
Однажды Витька отправился на работу (он заколачивал свои 150 рэ в месяц в КБ судоремонтного завода) с непристойно исцарапанным, просто-таки изодранным лицом. А когда вечером вернулся, соседки с ним не здоровались. И даже девяностолетняя баба Паша по прозвищу «Товарищеский суд», доживавшая жизнь возле окошка и бывшая в курсе всех домовых происшествий, вынесла суровый приговор, высунувшись из-за горшков с красными геранями:
– Ну, Витька, всегда я за тебя заступалась, а нынче, кабы могла, так и вдарила бы тебе по сопатке, чтоб ты всю жизнь этим фонарем вместо электролампочки пользовался! Зараза!
– Дядя Витя! – бросилась к нему всегдашняя болельщица Марьяна. – Что ты натворил?
Тот молча прошел мимо, даже не назвав ее Гертрудой.
Ситуация разъяснилась только вечером, за ужином. Едва дождавшись мужа с работы, Ирина Сергеевна, которую новости до того распирали, что она забыла о присутствии дочери, поведала, с трудом прорываясь сквозь смех, чем же провинился Витька: он по телефону вызвал Валентину с работы, завел в комнату, раздел, уложил в постель, а потом с идиотской ухмылкой объявил: «Первый апрель – никому не верь!»
Корсаков хохотал так, что жене в конце концов пришлось накапать ему в рюмочку валокордина.
Смех смехом, а кончилось все плохо, очень плохо. Эта история, как выразилась Валентина, «была последней каплей крови моего терпения», и защищать хозяйку 135-й квартиры на правах старого друга пришел бугай Роман. И вот как-то раз, проснувшись с похмельной, гудящей головою, Витька обнаружил себя валяющимся на раскладушке, Романа же отыскал рядом с Валентиной в своей супружеской постели.
И сошел Витька с катушек, и завил горе веревочкой, и не отрывался больше от стакана, в котором только и перемигивались с ним теперь приветливые лица, ибо весь прочий мир, казалось, от него отвернулся.
Деваться ему было решительно некуда: он снова и снова возвращался домой, откуда вылетал то на кулаках Романа, то на проклятиях Валентины.
Когда положение дел в 135-й квартире стало общеизвестным, возмущение соседей вмиг достигло точки кипения, но Михаил Алексеевич Корсаков оказался единственным, кто ввязался в конфликт. Нет, он не пошел стыдить Романа и Валентину: он стыдил Витьку-Федор Иваныча. А вскоре устроил его в ЛТП, чтоб зашили ампулу. Но пациент сбежал оттуда через неделю, заявив, что лучше голову в петлю сунет, чем воротится в эту гробиловку. В те времена про кодирование еще мало кто знал, однако Михаил Алексеевич нажал на все свои обкомовские педали и определил Витьку в отдельную палату «психушки», где экспериментировал молодой гений от психиатрии. Витька-Федор Иваныч стал его первым пациентом, блестяще подтвердившим амбиции пока еще непризнанного светила.
После выписки Витьку-Федор Иваныча восстановили в КБ, дали комнату в заводском общежитии. «Нет худа без добра», – сказал тот, кто потерял только сварливую жену да еще голос: это, видно, была плата за новую жизнь, ибо судьба ничего не дает на халяву. Корсаков подзуживал его начать размен квартиры, хоть бы и через суд, однако Витька мелочиться не намеревался: захотел по-мужски поговорить с Романом и заодно забрать кошку, которую Валентина теперь в квартиру не пускала (у борова Романа на кошачью шерсть обнаружилась аллергия), так что рыжую Симку весь подъезд прикармливал, только не родная хозяйка.
Пришел Витька-Федор Иваныч днем, чтоб наверняка застать одного Романа – отгул взял. Почти все соседи были на работе. Еще на пятом этаже ощутил запах газа, а уж на седьмом все было сизым-сизо, и тянуло из его, 135-й, квартиры! Почуяв недоброе, кинулся звонить в соседние двери. Бог надоумил не ломиться в роковую квартиру самим – вызвали пожарных, милицию, аварийную горгаза… Жильцов из подъезда удалили и только потом вскрыли квартиру. Зрелище открылось ужасное: Валентина с перерезанным горлом лежала в объятиях синего Романа, который сунул голову в газовую духовку – да так и застыл навеки.
Витька ничего из вещей не тронул, только свои фотографии, старые, еще детские, забрал. Кошку поймал во дворе, с собой унес. Квартиру сдал в ЖЭУ – и отправился в общежитие, больше ни разу не появившись на Ковалихе, где разыгралась драма его жизни.
Пока Михаил Алексеевич работал в обкоме, они с Витькой хоть нечасто, но виделись во время всяких инспекций да проверок, однако скоро разразилась перестройка, потом августовские события. Обком ликвидировали. Корсакова сократили. Партбилета он не сдал, из партии не ушел. «Слава павшему величию!» – на все был один у него ответ. Старые друзья звали его во всякие фирмы, расплодившиеся, как грибы после дождя, на обкомовских деньжатах, однако Михаил Алексеевич, по своему обыкновению, отшучивался – и вдруг устроился преподавать сопромат в университете: красный диплом наконец сослужил свою службу, даром что больше четверти века минуло с тех пор, как он сам этот сопромат изучал! Там проработал Корсаков почти до самой своей смерти, о которой Марьяне еще предстояло рассказать Витьке-Федор Иванычу… и тогда казалось, будто это самое трудное, что ей предстоит.
* * *Oсобой ловкостью Марьяна никогда не отличалась, но по «лестнице» из вьющихся роз только инвалид не спустился бы, а уж тем более – молодая женщина, пусть и обремененная ношей. Марьяна была так озабочена, чтобы не развязался шелковый изар, в какой завертываются арабские женщины, выходя на улицу (еще одна Ларисина покупка за сегодняшний день), который окутывал «Саньку», что почти не заметила спуска и на какое-то мгновение даже забыла о, самое малое, двух пистолетах, стороживших каждое ее движение. Oднако о них не забыла Надежда. И она-то не зевала: едва Марьяна коснулась земли, как над головой дважды громыхнуло, и на улице снова воцарилась раскаленная тишина.
Марьяна, с трудом удержавшись на ногах, оглянулась.
Пусто… но из-за забора вывалилась смуглая рука – пальцы еще слабо цепляются за пистолет, а чуть поодаль бежит в пыли тоненький кровавый ручеек.
– Чтоб твои глаза друг дружку увидали! – яростно зашипела сверху Надежда. – Чего стала, дура?! Двоих нет, путь пока свободен. Беги скорее!
Слово «пока» было как нельзя кстати. Неподалеку уже слышались возбужденные голоса, топот, и Марьяна, бросив последний взгляд на алую вялую струйку, метнулась в ближний проулок.
Ноги ее лишь на мгновение опередили волну ужаса: а если там засада?! – но в проулочке никого не было, если не считать собаки, пыльным клубком свернувшейся под глинобитным забором, и паренька, дремлющего рядом.
Пролетев проулок почти насквозь, Марьяна обернулась, спохватившись: а если никто из нападавших так и не заметил ее с «Санькой» бегства, а если они сейчас же начнут атаку с улицы на комнату, где затаились настоящие Лариса и Санька?!
Ни парень, ни пес даже голов своих не подняли, но в конце проулка застыли, словно в сомнении, две высокие фигуры. Стоило Марьяне обернуться, как они ринулись вперед.
Казалось, на всю жизнь запомнит Марьяна очертания этих стремительных фигур! На какое-то мгновение она застыла, глядя, как их длинные ноги сокращают расстояние, разделяющее ее и преследователей, а потом, взвизгнув, бросилась наутек по улочкам, забитым горами вонючего мусора, среди которых играли дети в очень ярких одежках, босые и чумазые.
Повернула за угол – и едва не упала на капот джипа, сцепившегося крыльями с побитым «Фордом», застывшим в крутом вираже. Улица оказалась до того узка, что двум машинам здесь почти не разъехаться, а еще и мушараби, ажурные деревянные решетки, со всех сторон окружавшие балконы, выступали вперед от двух противоположных домов, почти смыкаясь над пространством улочки.
Кое-как Марьяна протиснулась под стеной мимо джипа. Наскакивавшие друг на друга водители на миг замолкли, проводили взглядами испуганную белую женщину с плотно укутанным, так что виднелась лишь нахлобученная каскетка да кроссовки, ребенком на руках – и вновь нырнули в поток взаимных оскорблений. Пробежав еще несколько шагов, Марьяна обернулась – и, словно в четком кадре кинотриллера, сразу выхватила взглядом в толпе длинноногих негров в защитных поношенных штанах и таких же рубашках. Негры легко перескочили обе машины, словно те были игрушечными, и со всех ног помчались к девушке. Можно теперь не беспокоиться: след взят крепко! Стоило, конечно, подумать, что случится, когда ее схватят и обман раскроется… но времени на размышления не оставалось. И она побежала.
Хотелось лететь быстрее, еще быстрее, но Марьяна понимала, что с настоящим ребенком на руках так мчаться нельзя. К тому же пробраться сквозь толпу всех этих пестрых людей, кишевших на узких улицах и переулках, оказалось очень даже нелегко.
Сутолока здесь царила, как в настоящий базарный день! Пешеходы, велосипедисты, арбы, запряженные мулами, продавцы всякой всячины, ослики, верблюды с седоками и вьюками – все это визжало, кричало, ржало, скрипело, звенело.
Из-за угла, согнувшись под тяжестью бурдюка, вывернул сабба – разносчик воды; рядом толкал свой лоток с кусками жареной рыбы коричневый, как кофейные зерна, абиссинец. Марьяна проскочила между ними, но тотчас позади раздался истошный вопль, и она, не удержавшись, глянула через плечо.
Один из негров-преследователей оказался достаточно проворным, зато другой с разбегу столкнулся с абиссинцем, оба налетели на лоток, рассыпали рыбу и сами упали на мостовую. Негр попытался встать, но поскользнулся на разлитом жире и снова упал. А водонос, худощавый парень, то ли от испуга, то ли от неожиданности уронил свой бурдюк прямо на неловко поднимающегося негра – и тот снова рухнул.
Бурдюк от удара развязался, и негр, абиссинец и рыба вмиг оказались в огромной луже. Двое вопили во весь голос – в бурдюке оказалась холодная вода со льдом.
Водоноса будто ветром сдуло: исчез от греха подальше, даже бурдюка не подобрал, а следом промчался лохматый пегий пес, зажав в оскаленной, словно бы смеющейся пасти изрядный кус рыбы.
Один проворный негр не стал тратить зря времени и ждать, пока напарник сможет подняться, – он тут же ринулся вперед.
Говоря реально, негр, захоти он, давно бы уже схватил Марьяну, что вдруг она с ужасом осознала. Но то ли негр не собирался устраивать свалку на людной улице, где тотчас бы собралась толпа зрителей-свидетелей, настроение которых предугадать невозможно, то ли просто с самого начала намеревался лишь проследить за беглецами… Словом, он пока не приближался.
Марьяна облилась холодным потом: если верна ее вторая догадка, не значит ли это, что осада виллы еще не снята, Лариса и Санька в опасности, а ее маскарад напрасен? Конечно, было бы здорово позвонить сейчас туда, но где найти телефон, жетон и время на звонок? Да и кому звонить? Остается надеяться, что Лариса все же поставила свой сотовый на подзарядку: иначе ведь с Виктором не связаться!
Марьяна стремилась как можно скорее добраться до центральных улиц, где можно нырнуть в подъезд дома, в дверь какого-нибудь офиса, прыгнуть в такси, раствориться в толкотне автобуса, однако узкие улицы старого города, перетекая одна в другую, никак не кончались. И она снова бежала, бежала наугад, ничего не видя, кроме нескончаемой череды лавок, лавок, лавок… А над всем этим отчаянно синело небо, на котором полыхал огненно-золотой диск.
Пронзительный голос муэдзина завел полуденную молитву, но улица не опустела: правоверные не желали оставлять свой большой или маленький бизнес и совершали намаз «не отходя от кассы».