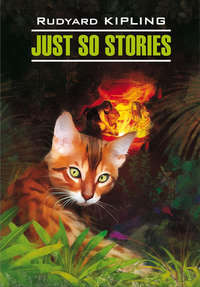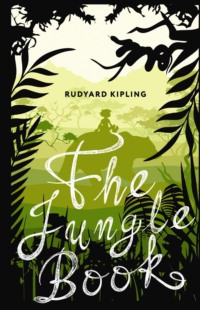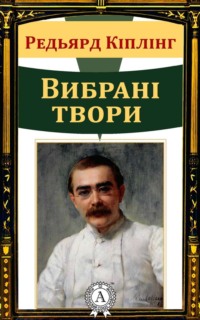Полная версия
7 лучших историй для мальчиков
Паганель осаждал Талькава своими испанскими фразами, но тот терпеливо отвечал на них. На этот раз географ изучал испанский язык уже без книги. Слышно было, как он громогласно произносит испанские слова, работая горлом, языком и челюстями.
– Если я не одолею произношения, то будьте снисходительны ко мне, – не раз говорил он майору. – Но кто бы сказал, что испанскому языку меня будет обучать патагонец!
Глава XVI
Рио-Колорадо
На следующий день, 22 октября, в восемь часов утра, Талькав подал сигнал к отправлению. Аргентинские равнины между 22° и 42° долготы понижаются с запада на восток – перед нашими путешественниками теперь простирался отлогий спуск к морю.
Когда патагонец отказался от предложенной лошади, Гленарван подумал, что Талькав, как многие местные проводники, предпочитает идти пешком, – это, конечно, при его длинных ногах было делом нетрудным.
Но Гленарван ошибся.
В момент отъезда Талькав свистнул особым образом, и тотчас же на зов хозяина из соседней рощицы выбежала великолепная рослая лошадь. Это было необыкновенно красивое животное караковой масти, сильное, гордое, смелое и горячее. У него была маленькая, изящно посаженная голова, раздувающиеся ноздри, глаза, полные огня, широкие подколенки, крутой загривок, высокая грудь, длинные бабки – словом, все признаки силы и гибкости. Мак-Наббс, знаток лошадей, не мог налюбоваться этим представителем пампасских коней; майор обнаружил у него некоторое сходство с английским гунтером. Этот красавец-конь носил имя «Таука», что на патагонском языке значит «птица». Несомненно, он заслуживал это имя.
Талькав вскочил на свою Тауку, и она рванулась вперед. Нельзя было не прийти, в восхищение, глядя на патагонца: это был великолепный наездник. У его седла виднелись два охотничьих приспособления, бывших в большом ходу в аргентинских равнинах: болас и лассо. Болас состоит из трех шаров, соединенных кожаным ремнем. Индейцам случается кидать его шагов на сто в преследуемого зверя или врага, и они делают это так метко, что болас опутывает ноги жертвы и она тут же валится на землю. Это – грозное оружие в руках индейца, владеющего им с поразительной ловкостью. Лассо же никогда не покидает руки того, кто его бросает. Оно представляет собой длинный, футов в тридцать, ремень, сплетенный из двух кожаных полос и заканчивающийся мертвой петлей, скользящей по железному кольцу. Эту мертвую петлю бросают правой рукой, а левой держат за конец лассо, который прочно прикреплен к седлу. Длинный, надетый через плечо карабин дополнял вооружение патагонца.
Талькав, не замечая восторга, вызванного его изящной, непринужденной и гордой осанкой, стал во главе отряда, и все двинулись в путь. Всадники то скакали галопом, то ехали шагом, ибо аргентинским лошадям рысь, видимо, была незнакома. Роберт ехал так смело, что Гленарван быстро успокоился относительно его умения держаться в седле.
Пампасы начинаются у самой подошвы Кордильер. Они могут быть разделены на три части: первая часть, покрытая низкорослыми деревьями и кустарником, тянется от Кордильер на двести пятьдесят миль; вторая часть, шириною в четыреста пятьдесят миль, поросшая великолепными травами, кончается в ста восьмидесяти милях от Буэнос-Айреса. Отсюда до самого моря путешественник едет по безбрежным лугам, покрытым дикой люцерной и чертополохом, – это третья часть пампасов.
Когда отряд Гленарвана выехал из ущелий Кордильер, ему прежде всего встретилось на пути множество песчаных дюн, носящих здесь название «меданос». Если пески эти не укреплены корнями растений, то ветер их гонит, словно морские волны. Песок дюн, необыкновенно мелкий, при малейшем ветерке взвивается, порой образуя целые смерчи, поднимающиеся на значительную высоту. Это зрелище одновременно и радует взор и неприятно для глаз. Радует оно потому, что, конечно, чрезвычайно любопытно наблюдать за этими бродящими по равнине смерчами: они сталкиваются, смешиваются, падают и снова поднимаются в хаотическом беспорядке; а неприятно это зрелище по той причине, что от этих бесчисленных меданос отделяется мельчайшая пыль и проникает в глаза, как плотно ни закрывай их.
Это явление, вызываемое северным ветром, продолжалось в течение почти всего дня. Тем не менее отряд быстро подвигался вперед, и к шести часам вечера Кордильеры, оставшиеся в сорока милях позади, лишь смутно чернели на горизонте, теряясь в вечернем тумане.
Наши путешественники, несколько утомленные после пути в добрых тридцать восемь миль, с удовольствием приветствовали час отдыха. Привал сделали на берегу Рио-Неуквем, мутные, бурные воды которой мчались меж высоких красных утесов. Неуквем называется у одних географов «Рамид», а у других – «Комоэ» и берет начало среди озер, известных только индейцам.
Этой ночью и в течение следующего дня не произошло ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Ехали быстро и беспрепятственно. Ровная местность и умеренная температура очень облегчали путешествие. Все же около полудня солнечные лучи стали жгучими. Вечером горизонт на юго-западе заволокло тучами – верный признак перемены погоды. Патагонец не мог не знать этого и указал географу пальцем на западную часть горизонта.
– Знаю, – отозвался Паганель и, обращаясь к своим спутникам, добавил – Погода меняется. Нам придется испытать на себе памперо.
И тут же он объяснил, что памперо, чрезвычайно сухой юго-западный ветер, – частое явление в аргентинских равнинах. Талькав не ошибся, и ночью памперо задул с ужасной силой. Это было довольно тягостно для людей, располагавших одними лишь пончо. Лошади улеглись на землю, а люди сбились в кучу подле них. Гленарван боялся, что ураган может задержать их, но Паганель, поглядев на свой барометр, успокоил его, сказав:
– Обычно памперо свирепствует три дня подряд, на что безошибочно указывает падение барометра. Но когда барометр поднимается, как в данном случае, все ограничивается несколькими часами яростного шквала. Успокойтесь же, мой друг: на рассвете небо снова станет ясным.
– Вы говорите, как книга мудрости, Паганель, – заметил Гленарван.
– Я и представляю собой книгу, – согласился географ, – и вы свободно можете перелистывать ее, сколько вам заблагорассудится.
«Книга» не ошиблась: в час ночи ветер вдруг стих, и путешественникам удалось восстановить свои силы крепким сном. Все проснулись освеженными и бодрыми, в особенности Паганель: он весело потягивался и похрустывал суставами.
Было 24 октября. Прошло десять дней со времени отъезда наших путешественников из Талькагуано. До того места, где Рио-Колорадо пересекается тридцать седьмой параллелью, оставалось еще девяносто три мили,[44] то есть еще три дня пути. Во время этого переезда через Американский материк Гленарван стремился встретить туземцев, надеясь получить от них какие-либо сведения о капитане Гранте. Сделать это он мог при посредстве патагонца, с которым Паганель уже недурно стал объясняться. Но, к сожалению, ехали по местам, мало посещаемым индейцами, так как проезжие дороги из Аргентинской республики к Кордильерам проходят севернее. Поэтому наши путешественники не встречали на своем пути никаких индейцев: ни кочевников, ни оседлых, живущих под властью кациков. Если же случайно вдали и показывался какой-нибудь всадник-кочевник, то он спешил ускакать, видимо, не желая входить в сношения с незнакомцами. Подобный отряд должен был в самом деле казаться подозрительным всякому всаднику, отважившемуся в одиночестве путешествовать по здешней равнине: встречного пугал вид этих восьми вооруженных людей, ехавших на быстрых лошадях, и одинокий путник среди этих пустынных мест мог заподозрить в них людей злонамеренных. И потому им никак не удавалось побеседовать ни с честными людьми, ни с грабителями. Пожалуй, приходилось пожалеть, что на пути им не попадалась шайка рестреадорес,[45] хотя бы даже и пришлось начать разговор ружейными выстрелами.
И все же, хотя Гленарвану и не удалось, к его сожалению, войти в сношения с индейцами, произошло нечто, подтвердившее удивительным образом правильность толкования документа.
Уже несколько раз отряд пересек на своем пути через пампасы разные тропы – между прочим, довольно важную тропу из Кармена в Мендосу. Ее легко можно было узнать по грудам костей домашних животных: мулов, лошадей, овец и быков. Кости эти, обглоданные хищными птицами и побелевшие от действия воздуха, служили как бы вехами тропы. Их были тысячи, и, вероятно, не один человеческий скелет смешался здесь с останками животных.
До сих пор Талькав не задавал никаких вопросов относительно намеченного нашими путешественниками маршрута. Но, конечно, он понимал, что путь этот, не имевший ничего общего ни с одной из дорог пампасов, не вел ни к деревням, ни к городам, ни к учреждениям аргентинских провинций. Каждое утро отряд, выезжая, направлялся навстречу восходящему солнцу и держался в течение всего дня прямой линии, а вечером, когда делали привал, заходящее солнце виднелось позади. Должно быть, Талькаву, как проводнику, казалось странным, что не он ведет путешественников, а его самого ведут. Но если он и удивлялся, то по сдержанности, свойственной индейцам, не показывал этого и, пересекая тропинки, по которым отряд не желал следовать, никаких замечаний не делал. Однако в этот день, когда отряд достиг вышеупомянутой тропы из Кармена в Мендосу, Талькав остановил своего коня и, повернувшись к Паганелю, сказал:
– Это дорога на Кармен.
– Ну да, милейший мой патагонец, – ответил географ, стараясь как можно лучше выговаривать испанские слова, – это дорога из Кармена в Мендосу.
– Мы по ней не поедем? – спросил Талькав.
– Нет, – отозвался Паганель.
– А куда же мы направляемся?
– Все на восток.
– Это значит никуда не попасть.
– Как знать!
Талькав замолчал и с глубоким удивлением посмотрел на ученого. Однако он ни на минуту не допускал, что Паганель шутит. Индеец, всегда ко всему относящийся серьезно, не может себе представить, чтобы кто-либо говорил несерьезно.
– Так, значит, вы не едете в Кармен? – прибавил он, помолчав немного.
– Нет, не едем, – ответил Паганель.
– И в Мендосу не едете?
– И туда не едем.
В это время Гленарван подъехал к Паганелю и спросил его, что говорил ему Талькав и почему тот остановился.
– Он спрашивал, куда мы направляемся: в Кармен или Мендосу, – пояснил Паганель, – и был очень удивлен, узнав, что мы не едем ни в одно из этих мест.
– В самом деле, наше путешествие должно ему казаться очень странным, – заметил Гленарван.
– Видимо, так. Он говорит, что мы никуда не попадем.
– Ну что же, Паганель, не могли бы вы разъяснить ему цель нашей экспедиции и почему нам важно двигаться все на восток?
– Это будет очень трудно сделать, – ответил Паганель – ведь для индейца совершенно непонятно, что такое географические градусы, а история документа покажется ему фантастической.
– Чего не поймет он: самую историю или того, кто будет ее рассказывать? – с серьезным видом вставил майор.
– Ах, Мак-Наббс, – воскликнул Паганель, – вы все еще сомневаетесь в моем испанском языке!
– Попытайтесь, мой почтенный друг! – ответил тот.
– Попытаюсь.
Паганель подъехал к патагонцу и принялся объяснять ему цель экспедиции. Географу часто приходилось останавливаться из-за недостатка слов, а также вследствие трудности передать индейцу некоторые особенности дела и разъяснить ему кое-какие чрезвычайно малопонятные для него подробности. Любопытно было глядеть на ученого: он жестикулировал, силился как можно отчетливее произносить, слова и вообще так старался, что пот градом катился у него со лба. Когда ему не хватило слов, на помощь пришла рука. Паганель соскочил с лошади и стал чертить на песке географическую карту, где меридианы пересекались с параллелями, где были изображены два океана и где проходила дорога на Кармен. Ни один преподаватель еще не бывал в таком затруднительном положении. Талькав невозмутимо следил за всеми движениями географа, но по его виду нельзя было угадать, понимает он или нет.
Урок географа длился более получаса. Наконец Паганель умолк, вытер струившийся по лицу пот и посмотрел на патагонца.
– Понял он? – спросил Гленарван.
– Сейчас выясним, – ответил Паганель. – Но если он не понял, то от дальнейших пояснений я отказываюсь.
Талькав не сделал ни одного движения, не проронил ни слова. Он не отрывал глаз от начерченной карты, мало-помалу сдуваемой ветром.
– Ну? – спросил его Паганель.
Казалось, Талькав не слышал этого вопроса. Ученый заметил на губах майора ироническую улыбку и, задетый за живое, собирался было с новой энергией возобновить свой урок географии, но патагонец жестом остановил его.
– Вы ищете пленника? – спросил он.
– Да, – ответил Паганель.
– И ищете именно вдоль этой линии, которая идет от заходящего солнца к восходящему? – прибавил Талькав, пользуясь индейской манерой выражаться для определения дороги с запада на восток.
– Вот-вот.
– Это ваш бог вручил волнам огромного моря тайну пленника?
– Да, сам бог.
– Ну, так пусть воля его свершится, – с некоторой торжественностью проговорил Талькав: – мы будем двигаться на восток и, если понадобится, до самого солнца!
Паганель, придя в восторг от своего ученика, не замедлил перевести товарищам ответы индейца.
– Что за умный народ! – с жаром прибавил он. – Я уверен, что из двадцати крестьян моей страны девятнадцать не поняли бы моих объяснений.
Гленарван попросил узнать у патагонца, не слыхал ли он о каких-либо чужестранцах, попавших в плен к индейцам пампасов. Паганель задал индейцу этот вопрос и стал ждать ответа.
– Быть может… – сказал патагонец.
Этот ответ был немедленно переведен на английский язык, и семь путешественников, окружив патагонца, вперили в него вопросительные взгляды.
Паганель, волнуясь и с трудом подбирая слова, продолжал задавать вопросы. Его глаза, устремленные на лицо медлительно-важного патагонца, словно пытались прочесть на нем ответ раньше, чем он слетит с его губ.
Каждое испанское слово патагонца географ тотчас повторял по-английски, так что, можно сказать, его спутники слышали ответы как бы на своем родном языке.
– Кто же был этот пленник? – спросил Паганель.
– Это был чужестранец, европеец, – ответил Талькав.
– Вы видели его?
– Нет, но я знаю о нем по рассказам индейцев. То был храбрец. У него было сердце быка.
– Сердце быка! – повторил Паганель. – Ах, что это за чудесный язык – патагонский!.. Вы понимаете, друзья мои? Он хочет сказать «мужественный человек»!
– Мой отец! – крикнул Роберт Грант. Потом, обращаясь к Паганелю, он спросил: – Как сказать по-испански: «Это мой отец»?
– Es mio padre, – ответил географ.
Тогда Роберт взял Талькава за руки и с нежностью произнес:
– Es mio padre!
– Suvo padre![46] – воскликнул патагонец, и взгляд его просветлел.
Он обнял мальчика, приподнял его с лошади и принялся разглядывать с удивлением и симпатией. Умное, спокойное лицо индейца выражало сочувствие.
Но Паганель еще не закончил своих расспросов. Где находился этот пленник? Что он делал? Когда именно Талькав слышал о нем? Все эти вопросы теснились одновременно в его уме. Ответы были тут же получены. Паганель узнал, что европеец был в плену у одного из индейских племен, кочующих по области между Колорадо и Рио-Негро.
– Но где же находился он в последнее время? – спросил Паганель.
– У кацика Кальфукура, – ответил Талькав.
– Не вблизи ли той линии, по которой мы двигались до сих пор?
– Да.
– А кто такой этот кацик?
– Он вождь индейского племени поюхов – человек с двумя языками, с двумя сердцами.
– То есть он хочет сказать, что этот вождь – человек фальшивый на словах и на деле… – пояснил Паганель, предварительно переведя дословно это красивое, образное выражение. – А сможем ли мы освободить нашего друга? – спросил, обращаясь к проводнику, географ.
– Быть может, если он еще в руках индейцев.
– А когда вы о нем слыхали?
– Давно. С тех пор солнце уже два раза посылало пампасам лето.
Радость Гленарвана не поддавалась описанию. Время, указанное патагонцем, совпадало с датой документа. Оставалось предложить еще один вопрос Талькаву, и Паганель не замедлил это сделать.
– Вы говорите об одном пленнике, – сказал он, – а разве их было не трое?
– Не знаю.
– И вы ничего не знаете о том, что теперь с пленником?
– Ничего.
На этом разговор закончился. Представлялось вполне возможным, что трое пленников могли быть давно разлучены. Но из слов патагонца несомненно вытекало, что среди индейцев шел разговор о европейце, попавшем к ним в плен. Время, когда это произошло, место, где находился пленник, даже образная фраза патагонца о его отваге – все, очевидно, относилось к капитану Гранту.
На следующий день,25 октября, наши путешественники с новым воодушевлением продолжали свой путь к востоку. Ехали они по печальной, однообразной, бесконечной равнине, на местном языке носящей название «травезиас». Глинистая почва вследствие действия ветров представляла совершенно гладкую поверхность: нигде не видно было не только камня, но даже камешка. Они попадались только на дне какого-нибудь бесплодного, пересохшего оврага или по берегам прудков, вырытых руками индейцев. Изредка встречались низкорослые рощи с черноватыми верхушками. Там и сям среди них проглядывали белые рожковые деревья – мякоть их стручков сладка, освежающа и приятна. Показывались рощицы фисташковых деревьев – ханаров – и всевозможные виды колючих кустарников, сухость которых говорила о начавшемся бесплодии почвы.
День 26 октября был утомителен. Нужно было поскорее добираться до Колорадо. Лошади, погоняемые своими всадниками, неслись с такой быстротой, что в тот же вечер отряд достиг красавицы-реки пампасов. Индейское название ее – Кобу-Лебу, что значит «великая река». Пересекая на значительном протяжении пампасы, она впадает в Атлантический океан. Там, вблизи устья, происходит любопытное явление: количество воды в этой реке по мере приближения к океану все уменьшается – потому ли, что почва дна реки впитывает влагу, потому ли, что вода испаряется. Наука еще не вполне выяснила причину этого редкого явления.
Добравшись до Колорадо, Паганель, как географ, прежде всего счел нужным искупаться в ее окрашенных красноватой глиной водах. Он был удивлен глубиной реки – явление, объяснявшееся таянием снегов под влиянием летнего солнца. Ширина реки была к тому же так велика, что лошади не в состоянии были ее переплыть. К счастью, двигаясь вверх по течению, наши путешественники вскоре обнаружили висячий мост, сделанный по индейскому способу – из сплетенных гибких палок, скрепленных ремнями. Благодаря этому мосту маленькому отряду удалось перебраться на левый берег, где он и расположился лагерем.
Прежде чем уснуть, Паганель задался целью – точно определить местонахождение Колорадо. Выполнив это, он самым тщательным образом нанес на карту эту реку – за отсутствием Яру-Джангбо-Чу, вдали от него низвергавшей свои воды с Тибетских гор.
Следующие два дня, 27 и 28 октября, путешествие продолжалось без особых происшествий. Перед глазами были все те же виды, та же бесплодная почва. Кажется, нигде нельзя было встретить более однообразный пейзаж, более невзрачную панораму. Между тем почва делалась все влажнее. Приходилось перебираться через затопленные водой низины, так называемые канадас, и через никогда не пересыхающие мелкие лагуны – эстерос, – заросшие водяными травами. Вечером лошади остановились у большого озера Ланквем, вода которого содержит очень много минеральных веществ, поэтому индейцы зовут его Горьким озером. В 1826 году оно было свидетелем жестокой расправы аргентинских войск с туземцами.
Здесь наши путешественники расположились, как обычно, лагерем, и ночь прошла бы спокойно, если бы вокруг не было обезьян и диких собак. Эти шумные животные, терзая, видимо в честь европейцев, их уши, исполнили одну из тех диких симфоний, которую, быть может, и одобрил бы какой-нибудь композитор грядущих лет.
Глава XVII
Пампасы
Аргентинские пампасы простираются от 34° до 40° южной широты. Слово «пампа» арауканское, оно значит «равнина, поросшая травой», и это название как нельзя больше подходит к этому краю. Древовидные мимозы западной ее части и роскошные травы восточной придают ей совершенно своеобразный вид. Вся эта растительность пускает свои корни в слой земли, под которым лежит красная или желтая глинисто-песчаная подпочва.
Американские пампасы – такое же своеобразное географическое явление, как, например, саванны Страны Великих Озер или степи Сибири. Климат пампасов, будучи континентальным, отличается более суровой зимой и более знойным летом, чем провинция Буэнос-Айрес. По словам Паганеля, океан зимой медленно отдает земле тепло, которое поглощается им летом. Этим объясняется, что на островах более ровная температура, чем в глубине материков.[47] Вот почему климат западной части пампасов не отличается тем единообразием, которое наблюдается на побережье благодаря близости Атлантического океана. В западной части бывают то суровые холода, то жгучая жара, резкие скачки температуры. Осенью, то есть в апреле и мае, нередки проливные дожди. Но в описываемое нами время года погода стояла очень сухая и чрезвычайно жаркая.
На рассвете отряд двинулся в путь, предварительно определив направление. Грунт, скрепленный корнями деревьев и кустов, сделался совершенно твердым: исчез мельчайший песок, из которого образовались меданосы; исчезла и пыль, клубившаяся в воздухе.
Лошади шли бодрым шагом среди высокой травы. Индейцы укрываются под нею от гроз. Иногда, но все реже и реже, встречались влажные лощины, где росли ивы, а также местное растение gygnerium argenteum, любящее близость пресной воды. Лошади, встретив в этих лощинах воду, спешили воспользоваться подвернувшимся случаем и пили вволю, словно желая запастись влагой на будущее. Талькав ехал впереди, обследуя местность и распугивая холинас – опаснейших гадюк, от укуса которых, менее чем через час, погибает даже бык. Проворный конь Талькава перепрыгивал через густые кусты, помогая своему хозяину прокладывать путь тем, кто ехал позади.
Путешествие по этим гладким равнинам не представляло трудности, и отряд подвигался быстро. Местность не менялась: все так же на сто миль кругом невозможно было найти не только камня, но даже и камешка. Исключительное, нескончаемое однообразие! Нужно было быть Паганелем – одним из тех ученых-энтузиастов, которые видят там, где нечего видеть, чтобы интересоваться подробностями такой дороги. Что же привлекало его внимание? Ему было бы трудно ответить на этот вопрос. Какой-нибудь кустик, может быть травка. Но и этого было достаточно, чтобы развязать язык словоохотливому географу. Он тут же принимался поучать Роберта, и мальчик охотно слушал его.
В течение этого дня, 29 октября, перед глазами наших всадников простиралась та же бесконечно однообразная равнина. Около двух часов пополудни всадники увидели кучи побелевших костей. Это были остатки огромного стада быков. Но расположены были эти остатки не по извилистой линии, как лежат обыкновенно скелеты обессиленных, падающих одно за другим животных. Поэтому никто не мог объяснить, почему на сравнительно небольшом пространстве было собрано столько скелетов. Непонятно было это даже и для Паганеля, и он обратился за разъяснениями к Талькаву. Того, видимо, вопрос ученого нисколько не затруднил, и он немедленно что-то ответил.
Восклицание географа: «Быть не может!»– и последовавший за этим решительный кивок головы патагонца очень заинтересовали их спутников.
– Так что же это такое? – спросили они Паганеля.
– Небесный огонь, – ответил географ.
– Как, молния могла произвести подобные разрушения? – воскликнул Том Остин. – Убить наповал стадо в пятьсот голов!
– Талькав это утверждает, а он не ошибается. Я ему верю в данном случае, потому что грозы в пампасах отличаются особенной яростью. Только бы нам не испытать этого на себе!
– Что-то очень жарко, – промолвил Вильсон.
– Термометр должен показывать тридцать градусов в тени, – отозвался Паганель.
– Это меня не удивляет, – сказал Гленарван – я чувствую, как электричество пронизывает меня. Будем надеяться, что подобная жара недолго продержится.
– Ну нет, – возразил Паганель, – нельзя рассчитывать на перемену погоды, когда на горизонте не видно ни дымки.
– Тем хуже, – заметил Гленарван – наши лошади измучены зноем… А тебе, мой мальчик, не слишком жарко? – прибавил он, обращаясь к Роберту.
– Нет, сэр, – ответил мальчуган, – я люблю жару. Жара – вещь хорошая!
– Особенно зимой, – глубокомысленно заметил майор, пустив вверх клуб дыма от своей сигары.
Вечером сделали привал у заброшенного ранчо – глиняной мазанки с соломенной крышей. Около ранчо был частокол, правда полусгнивший, но все же он мог защитить лошадей от лисиц. Самим лошадям эти хитрые звери не в силах причинить вред, но они перегрызают их недоуздки, и лошади пользуются этим, чтобы вырваться на свободу.