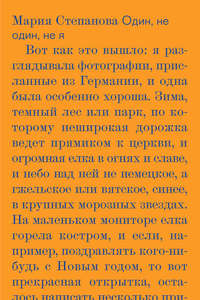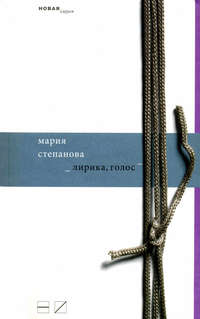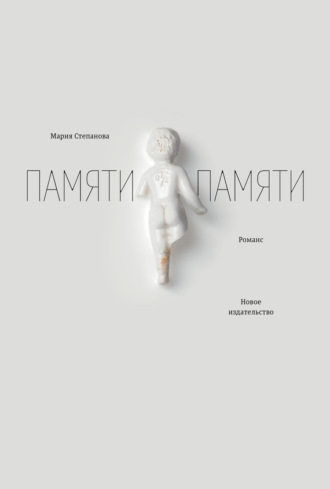
Полная версия
Памяти памяти. Романс
Воробьи тогда были меньше, а розы крупней.
Мужчины в кепках провожают взглядом мужчин в шляпах.
Оправила на невесте фату.
Ложка лежит ничком, привалившись к кофейному блюдечку.
Люди в купальном возятся в серой воде.
За садовой решеткой трава и древесные стволы.
Полосатые зонтики, полосатые будки, полосатые пляжные платья.
Тачка без хозяина, ручки к небу.
Полощутся флаги.
Собака бежит по песку.
Тень от стола на ярких досках пола.
Проще всего считать белые блузы и темные юбки, кружевниц за общей работой и тех, кто чокается в дверях уличного кафе, рассыльными памяти, выполняющими одну – слишком понятную мне – задачу. Все это, конечно, хроника, давние документальные съемки: и происходящее можно понимать как реквием по старому миру (одну из его частей: звучит-то он сколько я себя помню, десятилетиями, едва разбиваясь на авторские голоса). Финальные титры фильма с долгим перечнем имен заканчиваются единственной авторской фразой: последние сцены фильма были сняты на пляжах Европы в конце августа 1939-го. То есть сразу перед концом всего, добавляем мы, будто это не очевидно.
Документального кино, занятого раскопками этого всего, так много, что любой сюжет, если не лицо, кажется известным наперед; толпы, застигнутые врасплох кинохроникой, лишены фамилий и судеб и обречены бесконечно перебегать улицу под носом у трамвая, иллюстрируя любой произвольный тезис: «венские горожане приветствуют аншлюс», «завтра была война», «все там будем». Старинное разделение на важное и неважное действует везде: герой говорит, девочка ест мороженое, толпа стоит, как положено толпе. К хроникальному материалу относятся как к складу с реквизитом; его много, и можно выбирать на вкус и цвет. Автор рассказывает историю, прохожие ее иллюстрируют. Дело всегда не в них; они – если воспользоваться телевизионным термином – перебивки: то, что заполняет паузы, радуя глаз и не отвлекая от общей идеи.
Но никому, кажется, не приходило в голову отпустить этих людей на волю: дать им последнюю возможность побыть собой (а не типичным представителем улицы двадцатых), представлять и значить только самих себя. Именно это делает Ландауэр, не отнимая у них ни секунды экранного времени: каждому достается в фильме ровно столько времени и места, сколько успел когда-то снять оператор. Свобода ничего не подразумевать, обычно присущая жизни, а не искусству, делает «Diversions» чем-то вроде убежища для потерянных и забытых, демократического рая, в котором видимы все. Режиссер устанавливает долгожданное равенство между людьми, предметами и деревьями, где каждому отводится уважительное место как представителю бывшего. В некотором смысле конвенция, установленная здесь, – тихий эквивалент отмены крепостного права: с прошлого снимается оброчная связь с настоящим, с нами. Оно может гулять само по себе.
И все же, как я понимаю только сейчас, каждый из этих людей в какой-то момент вдруг поднимает глаза и смотрит в камеру, на меня, на нас – и это одно из удивительных событий фильма: взгляд никогда не находит адресата. Не находит до такой степени, что за десять (двенадцать, сколько-то) просмотров я так и не осознала случившегося eye contact: событие встречи заместилось событием невстречи, может быть, более важным. Ненарушаемый покой заповедника, исходящий от людей и вещей, делает пятнадцатиминутный рай «Diversions» убедительным: тем, где еще (или уже) не знают о страдании, где ему уже (или еще) не находится места. Взгляд упирается в мой – и проходит сквозь, не оставляя следов и отпечатков. Он больше не направлен куда-то, у него нет ни цели, ни адресата, словно перед ним пейзаж, в который можно войти и выйти. За стеклом объектива, в своей объективной недоступности суждению и толкованию, отменено все причинно-следственное – и при каждом новом просмотре мне кажется, что порядок эпизодов переменился, словно им разрешили стоять и ходить вольно.
Это большой дар – ничего не объяснять и не подразумевать; вот всадница в начищенных сапогах едет по Булонскому, что ли, лесу, спешилась, закуривает, позирует камере, длинным жестом сбрасывает наземь новенький жакет, который ей очень нравится, улыбается так, как улыбаются под чужим оценивающим взглядом. В пространстве фильма она свободна от оценки, как зверь в зоопарке, где бессмысленно сравнивать льва и тукана, моржа и медведя, меня и не-меня.
* * *У Кузмина есть рассказ про английскую гувернантку: она живет в России, нет известий о брате, началась война, она идет в кино, где показывают хронику, то, что позже, в моем детстве, называлось киножурналом – короткие репортажи о том, как отправляются на фронт новобранцы в форменной одежде, и вот она водит глазами по лицам и рукавам, надеясь на немыслимую встречу. И чудо происходит, вера торжествует: она узнает брата, но, как в старой сказке, не в лицо (все лица теперь одинаковые), а по тому, что выделяет его из ряда, делает непохожим на остальных – по дырке на штанах. Это, кажется, один из первых текстов века, где людям приходится находить друг друга по утратам: дырам и прорехам, участницам общей судьбы.
Прошлое чрезмерно, и это общеизвестно; его избыток (который настойчиво сравнивают то с паводком, то с потопом) подавляет, его напор захлестывает любой объем осознаваемого, и вовсе уж недоступно оно ни контролю, ни полноте описания. Поэтому приходится вводить его в берега, упрощать и выпрямлять, загоняя живой объем в желоба повествования. Количество и разноречивость источников, курлычущих ручьями слева и справа, вызывают странную тошноту, родственную той растерянности, что охватывает городского человека на очной ставке с природой как она есть, без смирительной рубашки.
Но, не в пример природе, ушедшие бесконечно покорны, они позволяют делать с собой все, что нам заблагорассудится. Нету интерпретации, которой они бы воспротивились; нет формы унижения, что заставила бы их взбунтоваться: их существование лежит заведомо вне правовой зоны, вне всякого рода fair play. Культура относится к прошлому, как сырьевое государство к природным ресурсам – выкачивая из них всё, что может; паразитирование на мертвых оказывается выгодным ремеслом. Все это они сносят с равнодушной кротостью деревьев.
То, как легко мертвые соглашаются на все, что мы с ними делаем, провоцирует живых заходить все дальше. Индустрия памяти имеет теневого близнеца, индустрию при-поминания (и приблизительного понимания), использующую чужую реальность как сырье, пригодное для переработки. Есть что-то жуткое в новеньких кошельках и школьных тетрадках, с которых смотрят на тебя лица со старых фотографий, давно утратившие свои имена и судьбы; есть что-то унизительное в подлинных историях, отправленных гулять по чувствительным романам «из прежней жизни», словно без примеси живой крови текст под обложкой не зашевелится. Все это – формы странного извращения, обрекающего нас на дегуманизацию собственных предшественников: мы навязываем им свои страсти и слабости, свои забавы и оптические аппараты, шаг за шагом вытесняя их из мира, наряжаясь в их одежду, словно она для нас пошита.
Потому как – что еще с ними делать? Главное, что известно живым о мертвых (за вычетом тех, кто нам родня, как у всякого анти семита есть знакомый еврей, не такой, как остальные), – их чужестранная экзотичность. Чиновники наполеоновских времен так же далеки от нас, как египетские писцы; общий знаменатель один: желание совершить моментальную подмену, вытеснить их собой, наиграться в их игрушки. Аристократия воображаемого так же бесправна и уязвима, как те, кого человеческий вкус назначает аристократами мира природы – и уважительно пускает в расход, употребляет на черепаховые гребни, страусовые перья, пятнистые шкуры.
Прошлое лежит перед нами огромным миром, годным для колонизации: быстрого грабежа и медленной переделки. Казалось бы, все силы культуры брошены на сохранение немногого оставшегося; любое мемориальное усилие становится поводом для торжества. Из небытия возникают новые и новые фигуры умолчания, люди, забытые собственным временем и найденные как остров: пионеры уличной фотографии, маленькие певицы, полевые журналисты. Легко было бы радоваться этому празднику – свежеоткрытой лавке колониальных товаров, где можно выбрать любой туземный сувенир, интерпретируя его по своему вкусу, без оглядки на то, что означала маска или погремушка в свое время и на своем месте. Настоящее так уверено в том, что владеет прошлым – как когда-то обеими Индиями, зная о нем столько же, сколько о них когда-то, – что вряд ли замечает, какие призраки бродят туда-сюда, игнорируя государственные границы.
* * *Когда ходишь по еврейскому кладбищу, где похоронена моя мама, вдоль серых могильных спин, глядя туда и сюда, начинаешь запоминать ее соседей, лежащих здесь, по эмблемам, невидимо стоящим за именами. Розовые деревья и розовые горы, звезды, олени, люди любви и люди свободы, вюрцбуржцы-Вюрцбургеры и швабы-Швабы, одинокий Мирон Исаакович Соснович (со своим невнятным местному слуху тотемным древом) из Баку (но рожденный, поясняет камень, в Белостоке), убитые в Первую мировую, убитые в Терезиенштадте, умершие вовремя, то есть до всего, в 1932-м, 1920-м, 1880-м, 1846-м, они оказываются мне роднёй уже в силу общей земли, и кусты фамилий с их означаемыми – все, что я об этой родне знаю.
Но бывает и так, что фамилия задним числом приоткрывает окошко в свой потусторонний, леденящий смысл, словно можно было бы его предвидеть и уклониться от судьбы, выданной, как билет в этимологической лотерее. В экспозиции берлинского Еврейского музея есть зал, отведенный для того, что названо семейными историями: детские фотографии, чашечки и скрипки тех, кому уклониться не удалось. На небольшом, обращенном ко мне лицом, экране там идет без устали чей-то домашний фильм из тех, что в эпоху home video стали всеобщей игрушкой – а тогда кинокамера была свидетелем и свидетельством благосостояния, где-то в ряду со швейцарскими лыжными подъемниками и летними вечерами на даче.
Здесь, как и в фильме Хельги Ландауэр, чужому прошлому предоставлена полная воля настаивать на том, что оно было, и молчать о том, что оно кончилось. Но в этом случае мы знаем некоторые вещи наверняка – и имеем некоторые представления о финале. Здесь особенно внятно жутковатое свойство видео: в отличие от любого старого текста, со всей возможной силой подчеркивающего и оттеняющего разницу между тогда и сейчас, видео настаивает на сходстве, на непрерывности, на том, что разницы нет. Так же бегут городские трамваи и поезда, s-bahn над землей, u-bahn – под; так же агукают, наклоняясь над колыбелью; ни заминки, ни неловкости; кое-кого больше не видно, и это всё.
И вот это всё: собака, вовсю барахтающаяся в сугробе, и ее веселые хозяева, комья снега въелись в лыжные штаны; неудачная попытка съехать с низкой горки и не упасть, разъезжающиеся лыжи, ворота сарая, свое крыльцо и кровля чужого дома, ребенок, выпроставший руки из старомодной глубокой коляски, воскресная улица, неотличимая от сегодняшней, с ее принаряженными прохожими, плащами, монахинями; какие-то пруды, озера, лодки, подрастающие дети, снова зима и конькобежцы расчищают перед собой лед, тридцать третий или тридцать четвертый год, пленка поставлена на реверс, лунного цвета мальчик спиной вперед взлетает к мосткам из черной воды. Досмотрев до конца, я потянулась глянуть, как звали этих людей. Фамилия была Ашер – Ascher.
Asche – пепел – одно из главных слов в послевоенных текстах, написанных по-немецки. Иногда оно произносится вслух, иногда подразумевается – так, первая книга Пауля Целана называется «Песок из урн»; documentary fiction Зебальда пишется и читается «как бы через слой пепла». Стоя перед экраном, где опять проверяли лыжи и плюхались в снег полупрозрачные Ашеры, я знала, чем кончилась эта семейная история, фамилия говорила сама за себя. Старые пленки пожертвовала музею в 2004 году дочь семьи, девочка из фильма; о том, что сталось с родителями, лодкой и собакой, сказано не было.
Ведь картинка делает рассказ ненужным – и занятно, что именно ее новый век сделал привилегированной формой рассказа. «Изображение может заменить тысячу слов», и это тоже правда: вместо того чтобы решить задачку, можно подсмотреть ответ в конце учебника. Даже об утраченном мы говорим сейчас в категориях визуального: как о видимом – и невидимом, которое понимается как потерянное. Вещи, выпадающие за край общего интереса, называются слепыми зонами, blind spots, словно речи недостаточно, чтобы сделать происходящее реальным. Именно так: фотография или даже рисунок воспринимаются как реальность, ее живой отпечаток; текст – как недостоверная авторская версия событий, которые не привелось засвидетельствовать.
Тут, впрочем, есть некоторая странность. Если смотреть на мир глазами google images, сплошными сериями визуальных образов, оказывается, что изображение (особенно фотография, этот фартук, прикрывающий плоть полноценного знания) в наименьшей степени интересуется реальностью там, где она дробится на фасетки частного, на десятки конкретных историй, каждая из которых снабжена фотодокументацией.
Я не имею в виду неизбежное и необходимое искажение реальности, которое описывает Зонтаг в знаменитой книге о фотографии: то, как ради правильного (сильного) ракурса приходится передвинуть мертвое тело, делая войну или беду похожими (или тревожаще непохожими) на наши представления о ней. Интересней другое: если мы говорим о функциональной или утилитарной фотографии (репортажной, рекламной, бытовой – не пытающейся быть искусством больше, чем это делает яичница или телепередача), у нее есть одна особенность. Лишившись текста, она немедленно оказывается абстракцией, медитацией на тему общего образца. Все военные снимки одинаковы, если отобрать у них подпись: вот убитый человек лежит на перекрестке, это может быть Донецк, Пномпень или Алеппо, мы оказываемся перед лицом беды, которая как бы не имеет различий, дыры, которая может разверзнуться где угодно. Но так же одинаковы детские фотографии (улыбка, медведь, платьице), модные фотографии (монохромный фон, съемка снизу вверх, руки вразлет), старые фотографии (усы, пуговицы, глаза; буфы, шляпка, губы). От «Илиады» остается список кораблей.
Когда я смотрю на кинохронику семейства Ашеров, на снежную горку 1934 года, на темную лыжню и освещенные окна, видео – лишь проводник готового знания о том, что случалось тогда с людьми, похожими на этих. Пепел к пеплу, снежный прах к снежному праху, общая судьба неуспевших; траектория кажется настолько ясной, что отклонение поражает, как явленное чудо. Просидев полчаса в интерне те, узнаешь, что родители и дети с лыжами и лодками принадлежат к невеликому числу спасшихся, уехавших в 1939-м, живших в Палестине, перебравшихся в Америку – ушедших от общей судьбы. Жаль, что люди на пленке еще не знают, что у фильма есть счастливый конец; ни одна прореха на это не намекала.
Неглава, Лёля (Ольга) Фридман, 1934
Моей бабушке едва исполнилось восемнадцать; мой дед старше ее на целых четыре года. Они познакомились «на дачах», в студенческой компании архитекторов, собиравшейся где-то в Салтыковке. Они поженятся только через несколько лет: Сарра Гинзбург, мать Лёли, настаивала, что девочке сперва надо закончить медицинский институт, и долго не могла смириться с неудачей.
1
Ольга Фридман – Леониду Гуревичу, 25 ноября 1934 года.
1–3 ч. ночи
Слеза, любимый, слеза сделала переворот в моих мышлениях.
Маленькая, скупая, она выкатилась из твоего глаза и победила. Победила глупые сомнения, страх, стыд – все, что составляло непроходимую преграду к твоему счастью. Эта маленькая, блестящая точка словно приворожила меня, наполнив настоящим блистательным счастьем.
Знаешь, родной, я никогда не думала, что горе, переживание других может доставить так много радости.
Теперь я понимаю твое желание видеть мои слезы, теперь, наконец, я простила тебе те мучения, которые ты заставил меня пережить.
Такого блаженного состояния я еще не переживала ни разу. Видеть, как человек, бесконечно дорогой для тебя, мучается безумно, чтобы не доставить тебе мучений; ощущать, что ты дорога, что ты необходима для другого, – это счастье, любимый!
Оно мучительно и поэтому блаженно. Оно особенное и мало понятное.
Пожалуй, я даже сама себе не смогу разъяснить испытанного в ту минуту чувства, когда эта блестящая волшебница, стоившая тебе стольких месяцев страданий, заставила окончательно перевернуться моему внутреннему «я»… Мне никогда не приходилось видеть, чтобы люди так переживали, мне всегда казалось, что только я одна переживаю сильно и искренно, но разве то, что испытывала я, может сравниться с твоими переживаниями?!
Нет! Конечно, нет!!! Только сейчас я поняла, что значит чувствовать, только сейчас я узнала, где кроется то, что называют «желанием»… Когда я не видала тебя день – я тосковала, мучилась, места себе не находила, но не звонила тебе и не рассказывала всего, что творилось у меня на сердце. Меня удерживали страх, сомненья, мне казалось, что это разлучит нас; мне казалось, что нельзя быть столь неудержимой в своих желаниях, мне казалось… да, что только не казалось. Я привыкла сдерживать свои порывы и мое терпение выручало меня.
Но ты, любимый, такой неудержимый в своих желаниях! Сегодня я поняла, что стоит тебе заставить их замолчать. Что я, – мои страдания показались мне уже не такими тяжелыми и знаешь, у меня промелькнула мысль, быть может, я тебя не стою?
Я не хочу этим сказать, что чувствую меньше, чем ты, или более поверхностно. О, это не так! Не истолкуй превратно моей мысли… Но ты, ты чувствуешь как-то еще более тонко, еще более… Хотя нет, не в этом дело! Я никак не могу согласиться, что ты любишь сильнее, чем я. Понимаешь – это ложь!
Но, вот ты никогда не сталкивался с трудностями, ты избалован, тебе никогда не приходилось заглушать то, что ты желаешь. А вот мне всегда приходится это делать. Ты эгоистичен, думаешь о себе, а главное тебе никогда не приходилось находиться между двумя различными полюсами, одинаково любимыми пусть даже различной любовью и делить между ними то, что так хочется отдать только в одни руки.
Подумай, мальчик, как тяжело так жить; может быть, мои страданья дадут тебе силу для ожиданья и борьбы…
Я не хотела говорить тебе этого, я не хотела мучить тебя, не хотела этого ради себя – признаюсь…
Но, сегодняшних минут достаточно!
Я всегда заставляла свои желания отодвигаться на задний план. Теперь думала немного пожить для себя, не считаясь ни с чем, но нет, я поняла, что это ошибка, жестокая ошибка или радужные мечты, т. к. жить для себя, мучая любимого – я не способна. Я поняла сегодня, что как индивидуум я больше не существую, что я слилась с тобой, всецело растворяясь, я уже решила, Лешик, быть совсем-совсем твоей, но видишь ли, мой мальчик, придя домой, я встретила маму взволнованную, тоскующую, и боль, жгучая боль обожгла сердце. Я решила, но мама, мамины тоскующие, измученные глаза сказали «Надо ждать!»
Как я могла забыть ее хоть на минуту.
Родной! Мама так мало видела счастья, мама столько мучилась, столько вынесла ради меня и столько еще мучается и страдает теперь, что я не в силах нанести ей этот последний удар. Пойми, ведь у мамы я одна. У меня есть ты, у твоей мамы – муж, а моя имеет только меня. Ради меня она такой молодой покончила со своим счастьем, для меня она отдала свою жизнь, из-за меня не вышла еще раз замуж и воспитала, вырастила меня совсем-совсем одна.
Я знаю, что́ ей стоило это! Я знаю, чувствую теперь ясно всю величину этой жертвы, я знаю, – хотя мама ни разу ни намеком, ни жестом, ни поступком не давала мне к этому повода. О, мама, как скала! С ней будет похоронено все, что чувствовала и переживала она и ни одна душа не догадается об этом. Так переживать и так скрывать это – может только мама.
И, видишь, родной, когда я стала большая, мама так боится потерять меня, даже не потерять, а выпустить в жизнь еще не подготовленной, наивной, мама считает меня еще совсем ребенком и мысль о том, что я могу вытти замуж раньше, чем буду в институте самостоятельным, оформившимся человеком, ей доставляет много, много страданья. Она молчит, лишь шуткой намекая на это, но я знаю – такой исход ей нанесет последний удар…
И, видишь, я мучаюсь, но все же не в состоянии сделать то, что прочла сегодня в твоих глазах. О, все это очень, очень сложно!.. Сложнее даже, чем ты думаешь, Ленёк!
Понимаешь, давно – я поклялась у папиной могилы, поклялась, когда мама, ломая свою жизнь, из-за моей просьбы отказала любимому человеку, что я когда-нибудь принесу ей не меньшую жертву.
Время пришло. Я говорю тебе: «Подожди, любимый» так, как мама сказала ему: «Подожди, любимый, пусть Лёля будет самостоятельной».
Не говори мне, что я не знаю, не понимаю, как тяжело все это. О! Я отлично сознаю все…
Я послала тебе то письмо потому, что я иначе должна была послать сегодняшнее. Я думала, что ты не так глубоко переживаешь.
Прости!!!
Иначе я бы никогда не позволила себе поступить так жестоко.
И вот сегодня мне пришлось сказать то, чем бы я никогда не хотела поделиться с тобой.
Еще раз прости, Лёнечка!
Я недооценивала твоего чувства, я боялась поделиться тем, что принадлежало мне одной.
Слеза сказала мне, что меня уже больше нет – есть «МЫ» и нам предстоит победить тяжелое, полное лишений время, нам предстоит принести жертву человеку, который так многого лишил себя из-за одного из нас. Вот единственный выход, который я знаю, любимый!
Сможешь ли ты пойти на это? Хватит ли у тебя выдержки и силы?
Решай, мальчик! С сегодняшнего дня тебе открыто все; ты ясно должен представить то, на что я зову тебя.
Быть может, сознание нашей жертвы поможет нам весело смотреть в грядущее, быть может, обоюдная поддержка сгладит те мучительные часы, которые придется пережить, быть может, что неизбежность заставит нас быть сильными.
Я не могу представить себе, что будет иначе. Я уверена, что ты поддержишь меня. Ведь не могу же я потерять тебя теперь, когда ты стал особенно близким и дорогим?! Ведь не могу же?!!…
На две жертвы – я не способна!
Так обещай, что ты поможешь мне выполнить то, что я всю жизнь считала своей священной обязанностью, поклянись, что любовь твоя достаточно глубока для этого.
О! Я буду несказанно счастлива, что и на этот раз не ошиблась в тебе…
Всю тяжесть будничных переживаний, клянусь, я буду скрашивать вниманьем и благодарностью, т. к. силу твоей жертвы я оценяю высоко. Слеза… о, слеза многое сделала, любимый!
Твоя любящая Оля.
2
Ольга Фридман – Леониду Гуревичу. Без даты.
Родной мой! Любимый!
Как однообр<азно> медленно тянутся дни, как тоскливо протекает время.
Эти 3 дня – мне кажутся вечностью.
Я выбита из колеи, я ничего не могу делать. Хочется быть с тобой, переживать твои горести и невзгоды, хотя, слава Богу <зачеркнуто>, они уже кажутся позади! Но это успокаивает лишь отчасти, и настроение просто убийственное.
Сижу, читаю твои письма, и познаю вновь, какой хороший у меня мальчик.
Лёнечка, милый!
Как передать тебе то, что пережито, передумано в эти долгие дни, как рассказать всю тоску и боль души! Любимый, как хочется, чтобы наша жизнь текла вот в таком же тепле и нежности, которой пропитаны твои письма.
Сколько накопилось невысказанно! А слов нет! Я не умею де литься!
Ф.
<На другой стороне листа:>
Пусть счастье наше будет овеяно новым чувством, пробудившимся во мне. Пусть наши отношения будут зиждиться на внимании и ласке. Пусть никогда не поднимается горечь со дна наших сердец! Пусть никогда не произносят обиды наши уста, и даже мысли пусть будут направлены для счастья друг друга.
Изменившаяся
<На обороте, крупным почерком моего деда:>
Родная моя!!!
Эти два слова скажут тебе все, сообщат тебе о всех моих мыслях, желаниях, мечтах, кои я мог бы вложить в сотни, тысячи строк, и все же тебе пришлось бы читать между строками, чтобы понять то, что я хочу рассказать тебе, что нельзя выразить словами, ибо слова фиксируют плоды мышления, а не чувств. Будь счастлива, дорогая.
Глава девятая, проблема выбора