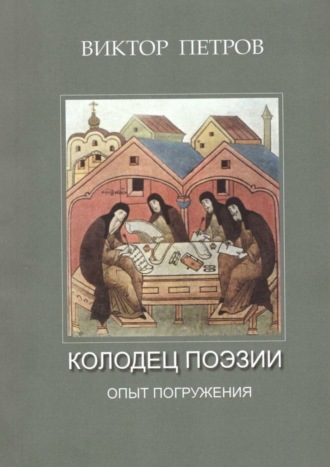
Полная версия
Колодец поэзии. Опыт погружения
Особенно важно, что пелись и младшим и старшим детям по сути дела одни и те же песни, они естественно, на бессознательном уровне, входили в память ещё во младенчестве, а потом, в более зрелом возрасте, воспринимались вполне осмысленно как что-то интуитивно знакомое, родное. Так входила народная поэзия, речевое богатство родного языка в сердечную сокровищницу русского человека.
Только единство поющего и слушающего делает поэтическую речь притягательной. А слушать и не перебивать на Руси умели. Колыбельная песня и её исполнение были вне критики и запрета. Она достигала видимой цели – младенец засыпал, и вся семья вздыхала с облегченьем. Но параллельно этой утилитарной задаче достигалась невидимым образом и духовная цель, освоение богатств отечественной культуры.
Первый собиратель русской народной словесности Пётр Киреевский, прекрасно знакомый с фольклором западноевропейских стран, заметил: «Едва ли есть в мире народ певучее русского». Он знал что говорил. «Собрание народных песен П. В. Киреевского» (1831 год) – первоначальный капитал особой русской духовности и душевности. Сохранился черновик вступительной статьи к первому тому этого грандиозного свода, написанный А. С. Пушкиным, который, кстати, передал Киреевскому свои записи великорусских песен. В нём поэт называл разнообразные жанры устного народного творчества «лестницей чувств». Вот на этой лестнице первой ступенью и является колыбельная песня.
Качаясь на волнах колыбельного слова, младенец бессознательно и естественно, как эхо, впитывал с молоком матери и развивал способность к неслышимому, но видимому (сочувственное выражение глаз, таинственное движение губ, отклик на ласку и т.д.), внутреннему диалогу с самим собою. И это задолго до формирования речи-общения. Говорить с другими – проза. Говорить с Богом – молитва. Поэты высоко ценили «безыскусное» песенное слово. Прикоснуться к нему, по выражению поэта Николая Языкова, не больше и не меньше как «душу освежить». С этим невозможно не согласиться! Не случайно многие русские поэты – А. Плещеев, Н. Майков, М. Лермонтов, А. Фет, Н. Некрасов, А. Блок и другие – писали свои «Колыбельные песни».
Для нас, привыкших к крепкому градусу книжной поэзии, колыбельная песня в лучшем случае оставляет, как молодая брага, лишь лёгкий хмель. Нет в ней плотного метафоризма, изощрённой ритмики и рифмовки, нет витиеватых сюжетов, политической позиции. И вот мы, минуя первую ступень «лестницы чувств», отлучаемся от истоков поэзии. Спасти безнадёжное положение может лишь колыбельное слово, возвращённое в младенчество наших детей, безропотно и самозабвенно впитывающих его с молоком матери. В детском саду и школе это лучшее время для формирования поэтического чувства будет уже упущено. Да кто сегодня будет петь традиционные народные колыбельные песни, те единственные, что воспитают певучесть души? В лучшем случае – наушники на голову и погромче то самое, что и взрослого сбивает с пути природного поэтического развития. Вот и ситуация, когда современный человек не то чтобы другого, но и сам себя не слышит. То, что для западной культуры – правило, то для нас – беда. Картина абсурда просматривается не только на межличностном, но и на межгосударственном уровне. Поэтому в нынешних стихотворных произведениях нарастает усложнённость, алогичность, нарочитая запутанность, отсутствие адресата, политизация. Пифии в Элладе и то были вразумительнее. Но подделки под народную традицию недопустимы. Как-то я с изумлением прочёл современную авторскую колыбельную: «…Месяц скрылся в облака под стрельбу с телеэкрана».
Русская душа излучает поэзию в силу своей природы, можно сказать, генетически, на основе выработанного множеством поколений чувства колыбельного равновесия – первого из основных чувств народившегося человека. И это наследие ныне ветшает. Поэт засыхает на корню, когда отделяет себя от слушателя (читателя, умеющего слышать) и замыкается в своём «гордом» одиночестве. Это своего рода безумие. Представьте картину: мать поёт колыбельную, качая люльку, а в ней – пусто!
Сочинять стихи – естественное дело, но слышать поэзию и ценить её – дело материнского воспитания. В колыбельной песне слово зыбко, легко переставляется с места на место, поддаётся контаминации, инкрустируется древними и вновь появившимися словами, звукосочетаниями, каламбурами. Гибкость и подвижность её не знают границ. Она выполняет главную свою миссию – гармонизирует дух, пробуждает к росту душу, озаряет её любовью.
Язык колыбельной песни оживает не в печатном виде, не в записи, но в душе матери, а душа раскрывается в голосе. Песня поётся, а не читается, она отражает состояние души и всякий раз звучит по-новому, как бы заново создаётся, а не воспроизводится по памяти. Звучащее слово всегда отличалось от письменного, навечно застывшего в знаке. И когда звуки и буквы сливаются в певучей душе, начинается поэзия – цветение и плодоношение родного языка, освежающий культуру ливень.
Нельзя, хотя бы вкратце, не остановиться на сопутствующих колыбельному слову жанрах фольклора, также созданных женщиной, но предназначенных уже не для внутренних чувств засыпающего ребёнка, а внешних чувств пробуждающегося для бодрой деятельности малыша. Речь идёт о пестушках, потешках и прибаутках, соединяющих колыбельную песню с русской народной сказкой. Цель их не в воспитании души и сердца, а в развитии тела и ума. Если оставить за границей эссе этнопедагогический аспект и обратиться к поэтической составляющей этих народных миниатюр, то откроется пиршество материнской поэзии: яркое словотворчество, остроумие, ритмическая упругость, игровая изобретательность, неожиданная образность. Едва ли в мире найдётся народ, создавший столь бесподобную устную словесность.
Примеров простейшей и такой яркой, запоминающейся поэзии – целые тома текстов, собранных и прокомментированных исследователями фольклора. Оздоровительная магия? Возможно. Однако уже в античной древности философы открыли врачующую силу поэзии, стихотворного ритма, образного слова (Эмпедокл, «Очищения»). Знали об этом и в древней Руси, о чём уже говорилось мною в эссе «Колодец поэзии». Если колыбельная песня – росток поэзии, то пестушки-потешки – цветочки, а лирические и эпические песни – плоды, безусловные поэтические ценности, признанные всем миром. Но если бы колыбельное слово не зародило в младенце чувства меры и поэзии, то и русской певучести не из чего было бы расти.
Колыбельные песни записаны собирателями с голоса и зафиксированы в свободной стихотворной форме. Как в истинном поэтическом произведении, эта форма не задана извне, а рождена душевным порывом, вдохновением творца песни и сообразно особенностям внутреннего мира младенца. Форма эта устоялась, но если взять её как некий сосуд и наполнить абсолютно новым содержанием, то колыбельной песни не получится. В поэзии нет вопроса о первичности формы или содержания. Они как вдох и выдох. Так дышит и поэзия материнского, колыбельного слова. Гёте в переводе Вяч. Иванова писал: «В духе формы стройных песен,/В сердце песен жизнь и жар».
Когда ребёнок засыпал и даже уже спал довольно крепко, пения не прерывали, а содержательную составляющую колыбельной лишь усиливали. Казалось бы, зачем? Цель-то достигнута. Младенец спит. Значит, не в этом заключена цель колыбельного слова. Думается, уже в доисторические времена люди открыли воспитательный эффект поэзии. Дети, лишённые живительной атмосферы колыбельного слова, развивались слабее, были беднее душевно, менее красноречивы, чем их более счастливые одногодки. Более того, именно в пограничном состоянии между сном и бодрствованием воздействие колыбельного слова на младенца оказывалось наиболее эффективным. Ветхозаветные мудрецы высоко оценивали это переходное состояние, считая, что именно в такие мгновения младенца посещают ангелы, святые небожители, обостряя его внутренние потенции, раскрывая дар божественного слова. В «Книге Иова» (33) читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает своё наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». И совсем не случайно многие колыбельные песни сродни вечерней и утренней молитве.
Несомненно, что образование человека, душевное, а затем и умственное, начинается с поэтически и музыкально оформленного колыбельного слова, звучащего в «тонком сне», на границе сна и бодрствования. Современное воспитание подрастающего поколения лишилось этого начала, как и самой зыбки-колыбели. Ещё в начале позапрошлого века А. С. Пушкин горько сожалел, что устная народная словесность исчезает «в дыму столетий», что же говорить русскому человеку начала третьего тысячелетия!
Музыку языка, азы звучания, хорошо темперированную поэзию – вот что открывает нам материнская колыбельная песня. Она, если и не начало и внутренняя основа поэзии, то, несомненно, волшебное мгновение пробуждения поэтического чувства, врата в родной язык.
ПОЭЗИЯ ВОЛШЕБНОЙ ПРОЗЫ
Нам другие сказки надобны,
мы другие сказки слышали
от своих покойных мамушек.
Я намерен слогом древности
рассказать теперь одну из них вам, любезные читатели.
Н. М. КарамзинВеликая русская проза образована слиянием многих словесных рек, одна из которых – волшебная народная сказка, изустное повествование, переданное по золотой цепочке поколений. Сегодня сказка нам дана в виде «неподвижного текста», но в устном исполнении она – театр, «маленькая поэзия» (А. Блок). Счастлив тот, кто слышал сказки в самом начале своего жизненного пути! Они сохраняются в глубине чистого сердца и даруют уже взрослому человеку ключ к чтению русской классической литературы.
Этим летом я предложил моим внучатым племянницам послушать сказку. Совершенно неожиданным был для меня их эмоциональный отказ:
– Мы не маленькие! – воскликнула первоклассница Таня.
– Да, не маленькие! – вторила ей Аня, младшая сестрёнка.
Увидев моё расстроенное и обескураженное лицо, они всё-таки снизошли до слушания. Но когда я дошёл до самого поэтического момента, до соприкосновения реальности и невидимого мира – « Мороз пуще затрещал и сильнее защёлкал:
– Тепло ли те, девица? Тепло ли те, красная?
– Тепло, Морозушко! Тепло, батюшко!» —
мои слушательницы со словами «Знаем, знаем! Видели мультик» убежали в свои подвижные игры.
И тут я задумался: а что же всё-таки произошло? Рассказчик я не ахти какой, но тут дело не во мне, а в сегодняшнем отношении к сказке как к простой, даже пустой забаве, к выдумке. Или на их реакцию повлияло крылатое выражение с негативной окраской: «Не рассказывай мне сказки» (не ври)? Но почему тогда я сам так волнуюсь и преображаюсь в этих «небылицах в лицах»? Сказка продолжает дело колыбельной песни, навевает «поэзии ребяческие сны», хотя, по словам проницательного поэта, «не о них хлопочут поколенья, промышленным заботам преданы» (Е. А. Баратынский). И если к ней слабеет интерес, то это означает приземление самой поэзии до уровня развлекательного действа. И вот поразительно, дети этому сопротивляются! Почувствовав моё недоумение, девочки сами стали рассказывать мне сказки, начиная с разыгрывания в лицах знаменитого «Колобка». И всё это не по книге, а по памяти, с поразительной бессознательной точностью.
Но при чём тут поэзия, когда сказки внешне – вполне прозаические повествования? Лет триста тому назад подобный вопрос был бы просто-напросто нелеп. Тогда любое художественное произведение обозначали словом «поэзия». Но ныне проведена устойчивая стилевая граница: «поэзия – это стихотворные художественные произведения, в отличие от художественной прозы», а следовательно, проза «противоположна поэзии (и стиху)» (А. П. Квятковский). Именно это толкование принято в наши дни обыденным читательским сознанием, причем проза воспринимается как нечто адекватное действительности, а стихи – как индивидуальный вымысел. Проза и поэзия стали двумя типами искусства художественного слова, и это один из плодов «искушения» эпохи Просвещения. Главным атрибутом волшебной сказки фольклористами принято считать «поэтический вымысел». Одним выражением подрывается доверие и к поэзии и к волшебной сказке! Они становятся выразителями «несуществующего мира», а посему как бы и несущественными. И сказка стала отодвигаться от серьёзного чтения, что проникло в нашу школу, в головы родителей, а значит, и детей. Но в сказках, как и в древнерусской книжности, сохранена первоначальная неразделённость поэзии и прозы, что не только не умаляет, но даже усиливает её воздействие на слушателя и читателя. Сказка докнижна, долитературна, устная речь имеет иную, так сказать, волновую, душевно-голосовую природу. Её необходимо не просто чувствовать, но и понимать её особую художественность. И совершенно не важно, что она передавалась через поколения людьми без литературного, а то и просто школьного образования, что, зародившись в языческие времена, стала христианкой в православии, не изменяя своей первоначальной глубине. И как же она обильно, росисто пала на книжную словесность! Какая была бы беда, задержись фольклористы в своей подвижнической работе на одно-два столетия!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

