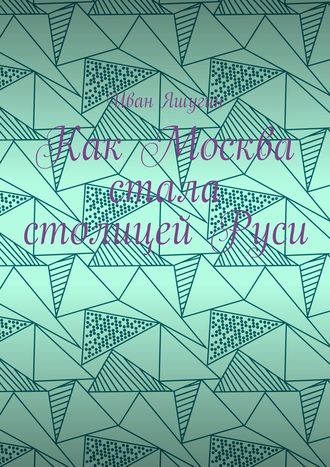
Полная версия
Как Москва стала столицей Руси
«Том же лете, на зиму, иде князь Святослав Всеволодиць, Олгов внукъ, из Руси на Суждаль ратью на Всеволода, а сынъ его Володимер с новгородьци из Новагорода; и съяшася на Вълзе устье Тьхвери, и положиша всю Вългу пусту, и городы все пожьгоша, и не дошьдеше Переяславля за 40 верстъ, у Вьлене у реце, ту ся воротиша…» (7) То же в Никоновской летописи – «и съяшася на Волзе усть Твери».
Из этих сообщений можно заключить, что новгородцы полностью контролировали эту область. Всеволод, однако, вновь напал на Торжок, а не стал искать встречи с вражеским войском в районе устья Тверцы. Нам важно заметить, что в связи с этими событиями в летописях не упоминается Тверь как город или поселение. Здесь слово Тверь или Тхъверь нужно понимать как сегодняшнее название реки Тверца, поскольку приводится слово «устье». Трудно себе представить, что летописец намеренно не стал упоминать Тверь, если бы она существовала в это время; так или иначе одна из сторон напала бы на это поселение.
У В. Н. Татищева сказано, что Всеволод после того, как разорил Торжок велел построить твердь «при устии реки». И хотя историки относятся настороженно к т.н. «татищевским известиям», всё же это сообщение Татищева выглядит логично, т. к. Всеволод после событий 1181г. не мог не оценить важности контроля устья Тверцы и тем самым передвижений новгородцев в случае очередных конфликтов. Это поселение могло в перспективе контролировать и торговлю Новгорода с «низом». А вот 1209 год можно уже считать годом основания Твери, поскольку упоминание ее под этим годом впервые появляется в Лаврентьевской летописи в связи с походом великого князя владимирского и снова против Новгорода: «Тою же зимы великыи князь Всеволодъ посла сыны своя Костянтина с братьею его на Мстислава Мстиславича на Торжекъ. Мстислав же слышавъ оже иде на не рать изиде ис Торжку Новугороду а отуда иде в Торопец в свою волость. Костянтин же с своею братею възвратишася со Тьфери и Святослав приде к ним из Новагорода и ехаша вси къ отцю своему в Володимерь» Указывается, что Константин со своею братиею возвратился из Твери. Слова «устье» здесь уже нет. Упоминание Твери уже под 1209 годом говорит в пользу известия Татищева; не мог же за неполные 30 лет город вырасти из ничего. А в 1215г удельный Переяславский князь Ярослав Всеволодович повелел заключить в темницу в Твери новгородского тысяцкого и новоторжского посадника, в отместку Новгороду, который незадолго до того посадил Ярослава у себя князем, а затем расстался с ним. Вот как рассказывает летопись (8): «Того же лета князь Ярослав я Якуна Зуболомиця, а по Фому посла по Доброщиниця, по новоторжскый посадник, и оковав потоци и Тьхверь». Как видим, Тверская область и, в частности, Тверь в это время контролируется уже Владимирским княжеством, а точнее – входит в зону активных интересов удельного Переяславского княжества, являясь его западной частью. Ярослав Всеволодович продолжал конфликтовать с Новгородом и фактически организовал блокаду в поставке зерна через Торжок, что привело к голоду в Новгороде. Поставка зерна из «низовских земель» была для Новгорода весьма чувствительным элементом жизнедеятельности и оставить это без ответа они не могли. Сам Ярослав находился в Торжке и оттуда руководил организацией блокады. Почему именно из Торжка, а не из Твери, лежащей также на Тверце? В 12—15 вв. Торжок (назывался также Новый Торг), входивший в состав Новгородской республики- не только важный пограничный пункт на юго-восточных границах владений Великого Новгорода. В начале 13 в. на Новоторжском торге собиралось до 2 тыс. новгородских купцов и торговцев. Новоторжские купцы были главными поставщиками хлеба для Новгорода. Но не только. Сюда стягивались, ставшие уже традиционными пути доставки мехов, воска и меда из окрестных земель и скупки их новгородскими торговцами. Впоследствии в 15 в. чеканилась собственная серебряная монета – «денга новоторжская». Город располагался на пересечении сухопутных и водных путей, что и способствовало его экономическому развитию. К 13в город был обнесен стеной, защищен земляным валом и рвами и превратился в серьезную крепость, на которой позднее споткнулись отряды Батыя. Еще более яркую картину средневекового Торжка рисуют данные археологии, получаемые ежегодно Новоторжской археологической экспедицией. На территории Борисоглебского монастыря обнаружены остатки пока единственного на пространстве от Великого Новгорода до Ростова Великого домонгольского каменного храма, расписанного высокохудожественными фресками в конце XII – начале XIII в. Но Ярослав Всеволодович намеревался не только прервать поступление зерна из «низовских земель», но и ущемить новгородцев в приобретении других товаров. Прошло около года после начала блокады и новгородцы в 1216г ответили контрударом. Однако, они не стали нападать на Торжок, т.е. не пошли по Мсте и Тверце, а высадились на юго-западных границах Владимирского княжества, захватили г. Зубцов, после чего принялись грабить земли, контролируемые Тверью. Под Тверью они разбили сторожевой отряд Ярослава и продолжая разорять окрестности захватили даже г. Коснятин, находящийся на самом востоке будущего Тверского княжества при впадении в Волгу реки Нерль. Топоним Коснятин вероятно трансформирован от имени собственного Константин (в летописях это имя часто пишется как Костянтин), которым назвал основанный им в 1134г город Юрий Долгорукий. (9) Сейчас на этом месте небольшой поселочек Скнятино. Узнав о нападении Ярослав спешно отправился к Переяславлю через Тверь. Сама Тверь при этих грабежах вероятно не пострадала, поскольку в летописях при описании этих событий она не упоминается. В действиях новгородцев прослеживается четкий план: они не собирались идти на прямое столкновение с Ярославом, а замыслили акцию устрашения и прошли за спиной князя по его землям и угрожали самому стольному граду княжества – Переяславлю. Чтобы осуществить этот план похода, им необходимо было попасть на верхнюю Волгу с таким расчетом, чтобы обойти Тверь не встретив на пути значительных сил князя. Основной маршрут, известный как часть известного варяжского пути, проходил от озера Ильмень по реке Пола, или по реке Ловать и далее после ряда волоков выходил на Селигерскую систему озер – Стерж, Вселуг и Пено т. е. по течению верхней Волги. (названия озер современные). По Волге суда шли до правого притока Вазуза, где в 13 в. был основан г. Зубцов, а затем через реку Гжать и ее притоки попадали в Москву реку.
Ко времени нашествия Батыя мы застаем Тверь и Тверской регион обширной западной частью удельного Переяславского княжества, периодически участвующего в стычках с новгородцами. Источники молчат о каких-либо других особенностях территории в это время. Заметим, что Переяславль как удельное владение достался Ярославу Всеволодовичу после смерти Всеволода в 1212 г. Старший сын Всеволода, Константин стал владеть Ростовом, Юрий – Владимиром, а самый младший из этих четырех сыновей – Владимир получил Юрьев Польской, хотя как сообщает Татищев, Всеволод хотел отдать Владимиру Москву.
О Москве
Но Москва при этом разделе земель осталась в составе Владимирского княжества, т.е. в руках Юрия Всеволодовича. Однако, Владимир не пожелал княжить в Юрьеве и скрылся в Москве, переждав перед этим некоторое время в Волоке Ламском. Как пишет М. Н. Тихомиров, «…и седе ту в брата своего городе Гюргове». (Древняя Москва….). Троицкая л. подтверждает, что « он еха в Москву». Владимира поддерживал, а скорее подстрекал к захвату Москвы старший брат Константин в пику Ярославу и Юрию. Но позже старшие братья примирились и положение Владимира стало сложным. Юрий осадил Москву в 1213г, вынудил брата покинуть город и он был отправлен на княжение в Переяславль Южный, а Юрьев был отдан следующему по старшинству Святославу.
Из этих событий для нас важно, что Москва уже в ту пору котировалась у княжеской династии достаточно высоко, как минимум следом за Юрьевым. И этому есть объяснение. Вот что пишет М. Н. Тихомиров (Древняя Москва): «Во второй половине XII в. Москва упоминается сравнительно редко и обычно в связи с военными событиями. Однако уже замечаются явный рост города и повышение его общего значения среди других городов Суздальской земли. Москва выступает перед нами прежде всего в качестве крайнего оплота Суздальской земли на ее западной окраине, передового пункта по отношению к Рязанской земле. Не забудем того, что обычная дорога из Рязани во Владимир шла кружным путем по Москве-реке и далее по Клязьме, так как Владимир и Рязань разделяли непроходимые леса и болота. Это своеобразное положение Москвы как перевалочного пункта между Рязанью, Черниговом и Владимиром становится все более заметным к концу XII в., когда она играет важную роль во время княжеской междуусобицы, последовавшей после смерти Андрея Боголюбского. В 1175 г. в нее пришли два князя, стремившиеся утвердиться в Суздальской земле, – Михалко Юрьевич и Ярополк Ростиславич. Они шли из Чернигова, видимо, той же торной дорогой, по которой ранее добрался до Москвы Святослав Ольгович. Ярополк поехал из Москвы в Переславль-Залесский, Михалко – во Владимир. Здесь мы чрезвычайно наглядно видим удобное положение Москвы как конечного пункта дорог, идущих из Чернигова. Из Москвы открывался путь и во Владимир, и в Переславль, и в Великий Новгород.»
Это представление Тихомирова никак не расходится с мнением С. Ф. Платонова: «… с другой стороны, и торговое значение Москвы в первую пору ее существования не выясняется текстом летописей. Если вдуматься в известие летописей о Москве до половины XIII в. (даже и позже), то ясна становится не торговая, а погранично-военная роль Москвы.» (Курс лекций…)
Надо сказать, что история с «княжением» Владимира в Москве тёмная, и нам сложно понять интригу этих событий; скорее всего Владимир по молодости и неопытности недооценил будущих превратностей склоки между родными братьями. Но то, что он выбрал для противостояния с Юрием именно Москву, говорит и о её выгодном стратегическом положении и о достаточности ресурсов. Снова читаем у М. Н. Тихомирова :
«Действия Владимира отнюдь не были его внезапной авантюрой. Он опирался на самих москвичей и хотел прочно утвердиться в Москве. Пока воевали его старшие братья, он вместе с дружиной и „москвичами“ подступил к Дмитрову, принадлежавшему Ярославу. Дмитровцы мужественно защищались и отбили нападение. В кратком известии об этом событии, которое помещено только в одном летописце, находим кое-какие любопытные подробности. Владимир осаждал Дмитров „…с москвичи и с дружиною своею“, чуть не был застрелен осажденными и бежал, испугавшись прихода Ярослава». Действительно, Владимир пробыл в Москве почти год и мог войти во вкус и почувствовать себя князем. Следует все-таки предполагать, что нападение на Дмитров было вызвано не только желанием прихватить город для себя, но и уколоть противника. Такова история с первым «князем» московским. После этого около 25 лет, т.е. до нашествия Батыя, летописи ничего не сообщают о Москве. А дальше все источники, кроме Новгородских, сообщая о нашествии отмечают, что при взятии Москвы был захвачен и князь Владимир, сын Юрия Всеволодовича, князя Владимирского. Вот, как описывает нашествие татар на Рязань, Коломну и Москву Троицкая летопись: «В лето 6745 (1237) на зиму придоша от восточные страны на Рязаньскую землю лесом безбожнии Татари и почаша воевати Рязаньскую землю и пленоваху и до Проньска, попленивше Рязань весьи пожгоша и князя ихъ оубиша: ихже емше овы растинахуть, другыя же стрелами в ня, а ини опакы руце связывахуть, много же святыхъ церкви огневи предаша, и манастыре и села пожгоша, имения не мало обою страну взяша. Потом поидоша на Коломну. Тое же зимы поиде Всеволод, сын Юрьев, внук Всеволож, противу Татаром и сступишася оу Коломны и бысть сеча велика, и оубиша у Всеволода воеводу Еремея Глебовича и иных мужии много убиша оу Всеволода; и прибежа Всеволод в Володимеръ в мале дружине, а Татарове идоша к Москве. Тое же зимы взяша Москву Татарове, и и воеводу убиша Филипа Нянка за правоверную христьянскую веру, а князя Володимера яша руками, сына Юрьева, а люди избиша от старьца и до сущего младенца, а град и церкви святыя огневи предаша, и манастыри, вси и села пожгоша, и много имения въземше отидоша»
Дальше татары пошли на Владимир, намереваясь при наличии у них такого пленника получить у Юрия сразу хороший выкуп и облегчить себе взятие города. Летописи сообщают, что действительно, татары первым делом «предъявили» Владимира Юрьевича осажденным и спросили « здесь ли князь Юрий“. Не получив желаемого, они церемониться не стали и убив Владимира приступили к осаде. Нам известно, что татары подошли к Рязани 16 декабря 1237г, а 21 декабря взяли город. Еще до подхода основных сил татар к Рязани состоялись переговоры Рязанских князей с татарскими послами о сдаче города и выплате десятины во всем. Сразу после этих переговоров рязанцы послали к великому князю Юрию Всеволодовичу гонцов с мольбой (как выражается летопись) о помощи, но ничего не дождались. Юрий вместо помощи рязанцам послал своего сына Всеволода с дружиной и воеводу Еремея Глебовича со второй дружиной к Коломне, где после Рязани ожидались татары. Туда же прибыли и москвичи и один из Рязанских князей – Роман Ингворович со своей дружиной, сумевший бежать из- под Рязани. Вот эти объединенные русские силы были попросту раздавлены татарами под Коломной. Москвичи по свидетельству Тверской летописи бежали с поля боя „ничего не видя“. Следующей на очереди была Москва. Всеволод Юрьевич сумел бежать из Коломны к отцу во Владимир и вот тогда-то Юрий из рассказа сына понял какая чудовищная сила появилась на Руси. Это видно из его реакции на Рязанские и Коломенские побоища: он понял, что собирать армию отпора во Владимире не имеет смысла и ушел собирать полки на Сить. Чем это закончилось мы знаем- полки Юрия на Сити были разбиты, сам он погиб. Мы уже видели из сообщения Троицкой летописи что случилось с Москвой. Но нас интересует роль князя Владимира Юрьевича, точнее его функции в период пребывания в Москве, и когда он там появился. М. Н. Тихомиров в своей работе (Древняя Москва) прямо называет Владимира московским князем, но оснований в источниках для этого нет, т.е. нет упоминаний о том, что он был посажен отцом в Москве. Но у Москвы был ещё и третий князь до того, как она получила официального князя Даниила Александровича, сына Александра Невского. Снова привлекаем М. Н. Тихомирова: „Близость Москвы к Владимиру объясняет нам попытку нового московского князя Михаила Ярославича Хоробрита захватить в свои руки Владимирское княжение. Михаил был сыном Ярослава Всеволодовича, братом Александра Невского. В некоторых источниках он именуется как «князь Михаила Ярославич Московский». Есть предположение, что Москва досталась ему в княжение по отцовскому завещанию, так как по смерти Ярослава брат его, новый владимирский великий князь Святослав Всеволодович, посадил по городам своих племянников, «яко же уряди» князь великий Ярослав Всеволодович. Опираясь на Москву, Михаил выгнал из Владимира своего слабого дядю Святослава Всеволодовича и захватил в свои руки великое княжение, но в том же 1248 г. погиб в битве с литовцами и был похоронен во владимирском Успенском соборе епископом Кириллом.
Кратковременное княжение Михаила в Москве бросает особый свет на положение этого города среди других русских городов середины XIII в. Михаил Хоробрит первый показал, что ближайшая дорога к владимирскому великокняжескому столу лежит из Москвы, которая являлась ключом к бассейну Клязьмы с запада». Ниже приводится свидетельство 4й Новгородской летописи, на которое ссылается Тихомиров применительно к Михаилу Хоробриту: «В лето 6757. ……..и Михайло Ярославич Московский убиенъ бысть отъ Литвы на Поротве.»
Но вернёмся к событиям, связанным с нашествием татар. По свидетельству Воскресенской и других летописей татарами было взято 14 городов Северо-Восточной Руси. В первую очередь нас сейчас интересует какой ущерб был нанесён Москве и Твери. Приведём мнение немецкого историка Э. Клюга (11): «Согласно утверждению советских археологов, Тверь наряду с Москвой, Ярославлем и Брянском относилась к сравнительно менее затронутым татарским нашествием регионам Суздальской земли. Области Владимира на Клязьме, Рязани, Переяславля Залесского и районы на верхней Оке и Сейме, напротив, подверглись тяжелым разрушениям.» После смерти великого князя Владимирского Юрия на реке Сить, новым великим князем в 1238 г. стал следующий по старшинству его брат Ярослав Всеволодович, княживший тогда в Киеве.
В целом в Северо-Восточной Руси «было мирно» вплоть до начала 50-х годов 13 в. А Ярослав Всеволодович умер в 1246 г. сразу после своей второй поездки в Каракорум, где был, вероятно, отравлен. К тому времени у русских князей вошло в обычай перед поездкой в Орду оставлять завещание. И следующий по старшинству его брат Святослав Всеволодович, ставший великим Владимирским князем, выполнил завещание брата, раздав племянникам, завещанные им города. В источниках не содержатся сведения, какие именно города получили по этому завещанию сыновья Ярослава Всеволодича. Это можно реконструировать только по косвенным данным. Что касается Твери, то здесь, пожалуй, самая большая неопределенность. Большинство историков считает, что по завещанию удельным князем Твери стал сын Ярослава – Ярослав Ярославич в 1247г., при этом Тверь должна была быть выделена из Переяславского княжества. Как видим, Тверь обрела своего законного князя раньше Москвы и тогда по сути началась история Тверского княжества.
Москва получила своего удельного князя в 1263г. По завещанию великого князя Александра Невского им стал его младший сын Даниил, которому было тогда всего 2 года. Его взял к себе на воспитание родной его дядя, тверской князь Ярослав Ярославич, бывший тогда великим князем владимирским. Его наместники управляли Москвой и волостями целых 7 лет, до той поры, когда скончался Ярослав Ярославич. В 1276г. великим владимирским князем стал Дмитрий Александрович и с этих пор началась междуусобная борьба между сыновьями Александра Невского, Андреем и Дмитрием, продолжавшаяся более 20 лет. В 1281 году Андрей привел на русь татар, чтобы с их помощью перехватить великое княжение у брата, что ему и удалось. Новгородцы поторопились признать Андрея также и своим князем. Дмитрий бежал, а татары рассыпались по Ростово- Суздальской земле и разорили все на своем пути. Сильно пострадала и Тверь, там тоже все было опустошено. Москву это несчастье обошло стороной и она не пострадала. В следующем 1282 году Дмитрий вернулся и стал собирать в Переяславле войско для реванша. Он собирался наказать Новгород, отступившийся от него в пользу Андрея, и направился от Переяславля в сторону Твери, чтобы затем захватить Торжок, половина которого принадлежала Новгороду и куда перед этим Дмитрий отправил своих наместников. Но на этот раз Москва и Тверь решили вмешаться, чтобы не дать разгореться новому конфликту между братьями и при этом снова оказаться потерпевшими поневоле, как в прошлом году. Новгородцы также выщли походом в союзе с Тверским и Московским князьями. Войска встречаются у Дмитрова, т.е.на пути Переяславской рати и стороны приходят к мирному соглашению. Это первое летописное известие о самостоятельных действиях Даниила Александровича. (12) «В лето 6791. Идоша новгородци на Дмитриа к Переяславлю, и Святославъ со тверици, и Данило Олександрович с москвици, Дмитрии же изиде противу плъкомъ со всею силою своею и ста въ Дмитрове. Новгородци сташа, не дошед Дмитрова 5-ю верстъ, и стояша 5 днии близь себе ссылающеся послы; и створиша миръ на всеи воле новгородчкой, и отъидоша».
Начало противостояния
А под 1285 г. в летописи впервые был упомянут и тверской князь Михаил Ярославич, будущий непримиримый соперник московских князей. Он был на 10 лет младше Даниила и с ним начиналась новая эпоха противостояния русских князей, на этот раз противостояние самых могущественных соперников северо- восточной руси. Само упоминание в летописи тверского князя в связи с таким событием было символичным, ибо указывало на превосходство Твери перед остальными княжествами северо-востока. Тверская летопись: « Въ лето 6793. Заложиша церковь каменну святого Спаса на Твери благоверным великымъ князем Михаилом Ярославичем, и материю его, благоверною великою княгынею Оксиньею Ярославлею Ярославича, и епископом Симеоном Тверскым». Тверской храм Спаса был первой каменной постройкой на северо-востоке после татарского нашествия. Через пять лет он был закончен, освящен и расписан. И это событие действительно может свидетельствовать о появлении на Северо-Востоке мощного княжества, поскольку такое строительство требовало значительного напряжения сил и ресурсов. Заметим, что первый каменный храм в Москве, Успенский собор, появился только через 40 лет при Иване Калите, а на всем Северо-Востоке не было создано ни одной каменной постройки за сотню лет после прихода Батыя. Идеологом строительства этого храма был несомненно епископ. Тверь обрела епископскую кафедру еще при Ярославе Ярославиче, бывшем тогда и великим князем Владимирским, который переманил к себе Полоцкого епископа Симеона в конце 60-х годов и предложил обосноваться в Твери. Тверская епископия стала второй на северо-востоке после ростовской, и Тверь таким образом стала значительным и авторитетным церковным центром, тогда как 40—50 лет назад это было маленькое поселение на западе Переяславского княжества. Можно считать, что строительство каменного храма Спаса в 80-х годах стало следствием деятельности Ярослава Ярославича, амбициозного первого князя Твери и одновременно великого князя Владимирского (7 лет) и Новгородского (4 года). Приумножил собранные Ярославом ресурсы следующий Тверской князь, его сын, Святослав Ярославич, который немного не дожил до закладки храма. Следующее упоминание Твери и Москвы в летописях находим также под 1285 годом. Троицкая летопись: « В лето 6793. …. Того же лета Литва воевала тферского владыки волости и Олешну и прочии, и совокупившеся Тферичи и Москвичи, Волочане, Новоторжьци, Дмитровци, Зубчане, Ржевичи, шедше биша Литву на лесе…». Из списка видно, что основу объединенного войска составляли союзники, выступавшие в 1282 г. против Дмитрия Александровича под Дмитровом: Москва, Тверь и новгородцы. Сам Дмитрий не пришел на помощь войску, выступившему против внешней агрессии.
В 1289 году Москва и Тверь уже не союзники. Дмитрий собрал объединенное войско, куда входили дружины брата его Андрея, Даниила московского, Дмитрия ростовского, и как сообщает тверская летопись « и вся князи, яже суть подъ нимъ и поиде с ними ко Тфери». Вначале, однако, они разорили окрестности Кашина, 9 дней пытаясь захватить сам город, но хорошо укрепленный Кашин выстоял. Вернувшись к Твери, они встретили здесь тверское войско и Дмитрий здраво оценив мощь Тверских полков, решил замириться с Михаилом. Без татар русские князья воевали неохотно. Надо заметить, что из источников не видны причины и мотивы этого похода и в научной литературе не сложилось его объяснения, тогда как сам состав его участников подразумевает какую-то интригу. В 1293 году на Русь вторглась татарская рать Дюденя, приведенная Андреем Городецким против великого князя Дмитрия Александровича. Было захвачено и разграблено 14 русских городов и в их числе, впервые после Батыя пострадала и Москва. Разумеется, был разрушен и Переяславль, отчина Дмитрия. Не пострадала только Тверь, поскольку как раз в этот момент Михаил Ярославич вернулся с другим татарским войском от соперника волжской орды Ногая и Дюдень должен был отойти не успев занять Тверь. Дмитрий во время этих событий бежал в Псков, а оттуда после ухода Дюденя в степь, вернулся уже в Тверь, где и нашел убежище. По дороге в Тверь он подвергся нападению Андрея, который забрал всю его казну и он больше не представлял ни для кого опасности. В следующем 1294 году после примирения с Андреем он скончался. Великим князем владимирским стал Андрей Городецкий.
В этот период на Руси сложились две коалиции, противостоявшие друг другу. С одной стороны это Андрей Александрович с Ростовским и Ярославскими князьями, с другой- князья Москвы, Твери и Переяславля. Позиции Твери и Москвы по отношению к великому князю определялись опасениями чрезмерного его усиления и в этой связи (по обоснованному мнению Э. Клюга) потенциальной опасностью « полного переворота политических отношений в Суздальской земле». Действительно, к этому времени сложилась законная иерархия претендентов на владимирский стол (после смерти Андрея, разумеется), где первым в очереди теперь был Даниил Московский, а за ним следовал Михаил Тверской. Опасения заключались в том, что при сочетании власти владимирского княжения, сильного удела и новгородского княжения Андрей мог попытаться отодвинуть «очередников» в пользу своего сына Бориса, тем более, что хорошие отношения Андрея с Ордой были сильным дополнительным аргументом. Сын Дмитрия, Иван переяславский также вынужден был опасаться Андрея, давно мечтавшего стать переяславским князем. Подробнее события вокруг Переяславля мы рассмотрим дальше.

