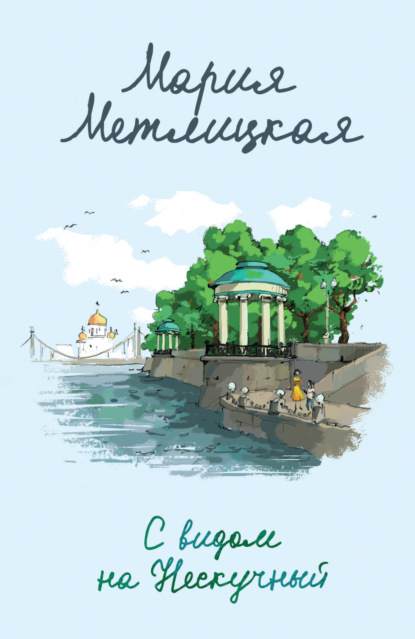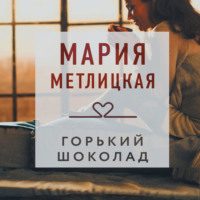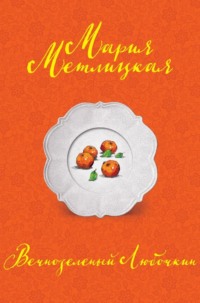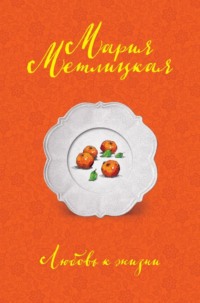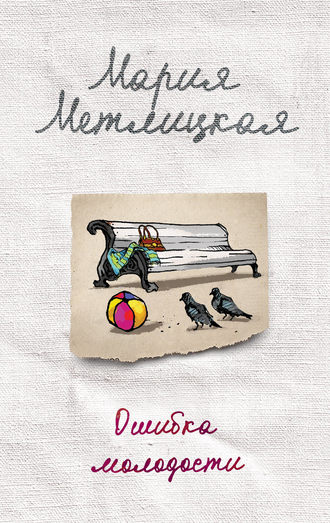
Полная версия
Ошибка молодости (сборник)

Мария Метлицкая
Ошибка молодости (сборник)
Ошибка молодости
Он приходил каждую неделю. Как часы – в девятнадцать пятнадцать. Видимо, после работы. Садился на скамейку у третьего подъезда и доставал пачку сигарет. И так – в любое время года. Если температура на улице зашкаливала за двадцать мороза, иногда забегал в подъезд – погреться. Клал руки на батарею и притоптывал ногами.
Жильцы, проходящие мимо или гуляющие во дворе, только поначалу смотрели на него с подозрением и опаской. А потом и вовсе перестали замечать – привыкли.
Так он проводил время до определенного момента – момента, когда во двор входила пара, мать и сын. Завидев их, подозрительный незнакомец вздрагивал и отступал назад. Когда эта пара входила во двор и направлялась к третьему подъезду, он нервно затягивался сигаретой, бросал окурок в урну и делал шаг вперед. Навстречу.
И тут натыкался на взгляд женщины – жесткий, колючий, раздраженный. Почти ненавидящий.
Впрочем, не почти. А даже откровенно, яростно ненавидящий. Такой, от которого хочется скрыться, испариться, исчезнуть моментально и необратимо. Словно тебя никогда и не было на этой земле.
Он резко отступал назад, несколько шагов, еще пару. Прижимался к стене дома, почти съеживался, опуская руки и голову.
Исчезнуть, исчезнуть. Раствориться в пространстве. Чтобы никогда – никогда – не наткнуться на этот взгляд. Потому что невозможно, немыслимо его выдержать. Потому что бесчеловечно и жестоко – так.
Хотя что там говорить – заслужил. А раз заслужил – так и получи!
Медленно, трясущимися руками он раскуривал очередную сигарету и, шаркая ногами, словно старик, двигался прочь. Со двора. Прочь!
– Никогда больше! – бормотал он. – Никогда! Хватит унижений, хватит боли! В конце концов… У меня своя жизнь. Ну уж какая есть. Не приду. Больше не приду. Идиотская затея.
Но он знал, что через несколько дней придет сюда снова.
Мать и сын шли всегда неспешно, всегда под руку. Шли и оживленно разговаривали. Иногда было видно, что они горячо спорят. Тогда они останавливались, сын размахивал руками, а мать смеялась и, поправляя на мальчике шапку, обязательно чмокала его в нос, после чего смеялись уже оба.
Были они удивительно похожи: курносые, сероглазые, темнобровые. Оба в очках – очевидно, близорукие.
Мать всегда встречала сына у школы. Завидев ее, мальчик радостно махал рукой и торопился как мог. Она всегда успевала выкрикнуть:
– Не спеши! Не беги! – И лицо ее при этом искажалось гримасой беспокойства.
А он все равно торопился. И пытался бежать – как мог. Получалось плоховато – мальчик сильно хромал. Портфель он держал в правой руке – левая безжизненно висела вдоль угловатого подросткового тела.
Мать делала шаг навстречу, мальчик, поставив портфель, обнимал ее здоровой, левой, рукой. Они обменивались последними школьными новостями и не спеша отправлялись домой.
Частенько их можно было видеть в кондитерской. Мать садилась за стол, а сын шел к прилавку. Там он заказывал кофе для матери, чай для себя и пару пирожных – шоколадный эклер и безе.
Они смаковали все это баловство с явным и неспешным удовольствием и с таким же явным и неспешным удовольствием продолжали общаться.
Иногда, перекусив, направлялись в кино. Или в сквер – если была приятная погода. Там, сев на скамейку, они доставали книжки и очень сосредоточенно читали, тоже с явным интересом и удовольствием. В это время мать и сын не общались – молчали, не мешая друг другу. Чтение – вещь интимная.
Молодые мамаши, караулящие в школьном дворе своих первоклашек, разглядывали эту пару с интересом и завистью. Однажды рискнули все же обратиться к женщине, послав представителя – самую бойкую и общительную.
Та извинилась и задала маме мальчика один вопрос:
– Как вот сделать так, чтобы… Короче говоря, чтобы сын любил родителей, уважал, относился к ним бережливо и трепетно, как ваш мальчик.
Мать сначала рассмеялась, потом растерялась, залилась румянцем и в смущении развела руками:
– Да бог его знает! – А потом, сдвинув густые красивые темные брови, медленно и задумчиво произнесла: – Ну… Любить, наверно…
Интервьюерша удивилась – ответ ее явно не удовлетворил, она даже разочаровалась.
– Ну, любить… А кто же не любит своих детей?
– Ой, правда! – Женщина опять густо зарумянилась, снова крепко призадумалась и, наконец, произнесла: – Вот уважать, наверно, еще надо. Никогда не отмахиваться. Всегда находить на ребенка время. Даже если ты очень занята – готовка там, или уборка. Ведь ребенок важнее, верно?
Молодая мамаша кивнула.
– Да, – уверенно повторила мать мальчика. – Ребенок важнее всего! Думаю, так. Впрочем, какой из меня советчик и педагог? По образованию-то я химик-технолог! И опыта у меня никакого! Сын первый и единственный! Все – по наитию, все от сердца! Смелей – и оно не обманет!
Потом женщина увидела в толпе подростков своего мальчика и, привстав на цыпочки, помахала ему рукой.
Собеседница ее больше не интересовала.
В воскресенье мать и сын выходили на прогулку с высоким седовласым мужчиной, отцом семейства. В середине – мать и жена, любимая маленькая женщина, по бокам – сын и муж. Они оживленно беседовали, и взрослые чуть замедляли шаг, стараясь попасть в такт шагов мальчика.
Возвращались они с пакетами и сумками из магазина и с рынка. Частенько обедали в соседнем ресторанчике, объявив, что сегодня у любимой мамы выходной.
Переехали они в наш двор не так давно, каких-нибудь пять или шесть лет назад.
С бабушками на скамейках, местными дворовыми «авторитетами», женщина не общалась, только вежливо, с улыбкой здоровалась. Но дворовые всезнайки знали, что зовут ее Люба, хроменького сына – Сережа, а глава семьи – Евгений Андреевич. Все. Больше никакой информации, что, естественно, огорчало и не удовлетворяло в полной мере любопытство завсегдатаев двора.
Относились к этой семье с уважением – мать-то какая! Всю жизнь больному дитю посвятила! А папаша! Ни разу пьяным не явился. Ну ни разу! Только с пакетами и рысачит каждый вечер. Да еще и цветы прихватит или торт. Приличная семья, ничего не скажешь! Вот захочешь – и не скажешь. Потому что нечего. Только жалко – такая семья, а мальчишка больной. Не повезло людям, не повезло! А когда приличным людям везло?
Когда Люба ловила на себе жалостливый или участливый взгляд, ей становилось смешно. Наивные глупцы! Ее ли, счастливейшую из женщин, надо жалеть? Вот как им рассказать, что она счастливее их всех, вместе взятых? Ведь не поверят! Она относилась к ним снисходительно – с высоты своего счастья, своей удачи – и улыбалась открыто и задорно.
Потому что счастливому человеку улыбнуться несложно.
* * *Николаев не хотел себе признаваться – даже сейчас, спустя много лет, – что не хотел этого ребенка. Ни этого, ни какого другого. Какой ребенок? Они с женой студенты, живут в квартире его родителей. Мать относится к молодой снохе не очень, честно говоря.
– Люба твоя – блаженная! Всю жизнь проходит в розовых очках! На все – с улыбкой и со смешком. Ну не дурочка ли? Все ей в радость, все нипочем. Точно – дурочка. Глазки нараспах.
Он буркал:
– А что, это плохо?
Мать отвечала с тяжелым вздохом:
– Да, сынок. Плохо. Жизнь – штука серьезная, и к ней надо относиться с почтением. Тогда и она тебе тем же ответит. А если к ней, как к подружке, беспечно, так она потом по морде настучит, не сомневайся!
Женился Николаев на втором курсе. Рано, конечно. Только влюбился и – море по колено. И на все сложности наплевать. Если бы он знал тогда, что тогдашние трудности – смех, пыль, ерунда по сравнению с тем, что еще предстоит. И на что он, как всегда, по привычке, по свойству натуры и характера, решит «наплевать».
Всю беременность Люба ходила с улыбкой. Трогала веточки пушистой вербы – радовалась. Букету полевых колокольчиков – радовалась. Пломбир в стаканчике – тоже счастье. Всё – счастье: синичка с желтой грудкой, котенок соседский, бродячий лохматый пес. Яблоко – какое сладкое! Сыр – боже, до чего пикантный! Хлеб – такой теплый! А дождь? Какой потрясающий дождь! А до чего приятно пахнет асфальт после дождя! Комедия какая чудесная! А книга – просто гениальная! Все талантливо, все замечательно! И люди вокруг – одни прекрасные и одухотворенные лица!
– Ты дура? – говорил он. – Не видишь алкашей, слякоти, очередей? Обмана? Пустословия, ехидства, зависти? Разбитой мостовой, хамства окружающих? Лицемерия знакомых? Ничего не видишь?
Она пугалась и мотала головой. Правильно говорит мать – дура. Блаженная. И как с нею жить?
Женщина должна быть такой, как его мать, например: собранной, жесткой, объективной. Без всяких там – пуси-муси. А как выжить иначе? Мать всегда впереди, всегда главный советчик и поддержка. Женщина должна вести дом, рассчитывать бюджет – кому туфли, кому пальто, сколько на отпуск отложить и на черный день.
А эта? Увидела кофточку и схватила. Потом еще одну. Сколько можно? Потом плакала – прости, так захотелось, просто до слез!
Вот и поплачь, поплачь! Поизвиняйся. Вместо того чтобы на коляску, например, отложить. Или на манеж. Стыдно? То-то!
Мать сетовала:
– О чем ты, Люба, думаешь? Вот где у тебя голова?
Та совсем расстроилась, даже жалко стало. А потом – дура есть дура! – пошла эту несчастную кофточку к галантерее продавать. Стоит, дрожит, как осиновый лист. Милиционера увидела – и со всех ног. В ее-то положении! Еще одно подтверждение – дура!
На дороге упала, спасибо что не под машину. Головой ударилась и спиной.
Мать сказала:
– Тебе только башкой ударяться! Все равно опилки внутри. – И отнесла назавтра кофту эту чертову на работу. Конечно, продала. Еще и на пятерку дороже!
Не то что эта… «Несклепа» – правильно мать ее называет. Зайчик солнечный на стене. Поверни зеркальце – и нет.
Дурак. Зачем торопился? Гормоны, правильно сказала мать. Повелся на поводу своих желаний, вот теперь и расплачивайся за ошибку молодости. А тут еще ребенок!
Если бы Николаев знал тогда, если бы мог предположить, что она, эта девочка, тоненькая, светлоглазая, курносая, окажется сильнее всех женщин на земле!
* * *Роды были до срока. Ранние и тяжелые. Осложненные роды. Воды отошли, схватки дикие, а ребенок все не шел. Тянули щипцами. Вытянули. А он не плачет. Молчит. Зато мамаша кричит:
– Почему он молчит, почему?
Истерика, понятное дело. Откачивали долго. Акушерка глянула на часы и посмотрела на врача. Тот насупил брови и бросил:
– Еще!
Закричал! Точнее – пискнул. Недоношенные не кричат, пищат, как мышата. Ну и слава богу! Вытащили. А что потом?.. Хорошего мало, конечно. Акушерка опытная, все видит. Да и педиатр хмурится – хилый ребеночек, дохленький. Не жилец, по всему видно.
Ладно, не их дело. Их совесть чиста. А там – как судьба распорядится. На них греха нет.
А мамаша уже смеется:
– Сыночек мой! Звездочка! Солнышко мое ясное!
Охохошеньки! Грехи наши тяжкие. И за что ей, такой молодой? Впрочем, хорошо, что молодая. Еще родит. Если бог даст.
Кормить малыша не приносили. Говорили, так слаб, что сосать грудь не сможет. Лежит в камере с подогревом, под колпаком. И кормят его внутривенно. А она заливалась молоком. Не женщина – молокозавод. Сцеживать грудь было невыносимо больно. Она плакала и кусала до крови губы. Ее молоком кормили троих малышей.
Вечером, держась за стену, на дрожащих от слабости ногах Люба брела к реанимации. Если дежурила сестра Нина, она тащилась обратно. Нина была злая и вредная, а Надя, Надюша, тихонько кивала и впускала Любу в палату. «На одну минуту», – предупреждала строго.
Люба заходила в палату и смотрела на сына: крошечный, бледнющий, вздрагивающие ножки-прутики. На сморщенном личике гримаса боли. Пяточки темно-синие от уколов. Весь в проводах, в пластыре. «На аппарате» – Надюшины слова.
Она шептала:
– Сыночек! Не подведи! Борись, мой миленький! Только не сдавайся! Сейчас все зависит от тебя! А дальше – мы вместе! Я буду с тобой! И я обещаю. Обещаю – слышишь? Все будет нормально! И даже – замечательно! Ты же мне веришь? И я тебе! Держись, мой любимый! Я знаю, как тебе тяжело!
Надюша заглядывала в палату и шипела:
– Все. Свиданка закончилась.
Она готова была целовать этой Надюше руки.
И опять по стеночке ползла в палату. Падала без сил, не чувствуя боли в груди и внизу живота, и, счастливо улыбаясь, засыпала. Знала – все будет хорошо. Верила в то, что сыночек ее не подведет. Выкарабкается.
По-другому не может быть никак.
* * *Педиатр, молодая красивая женщина с туго затянутым блестящим пучком на затылке, вышла в холл для беседы с родственниками. Эту обязательную часть работы она не любила больше всего, потому что приходилось часто говорить о неприятном. А неприятности она просто не выносила. Да и родственники попадались разные, в том числе очень нервные: начинали истерить и хватать ее за руки, пытались сунуть в карман открахмаленного до голубизны халата деньги. Еще не хватало! В деньгах она не нуждалась – полковничья жена. И в подарках тоже.
Но эти – эти были вполне вменяемы. Высокая, ухоженная, строгая женщина (свекровь, понятно) и совсем молодой, просто юный, растерянный папаша. С такой тоской в глазах! Даже жалко стало бедолагу.
А правду сказать все равно пришлось, несмотря на сочувствие. Все по букве закона и врачебному кодексу.
– Да, ребенок недоношенный, слабый. Лежит в кювезе на искусственной вентиляции легких, а это далеко не плюс! Никак не можем раздышать. Ну а посему – возможны всякие последствия. Предугадать какие – трудно.
Высокая женщина задавала четкие вопросы. Не рыдала и не сморкалась. Все по делу, грамотно. Общаться с ней было приятно, если может быть приятно в такой ситуации. Пришлось даже сказать главную правду, хотя произнести ее непросто:
– Да, лучше бы… Уж вы меня извините, но, я вижу, вы женщина выдержанная и разумная. Простите, бога ради, я, конечно, не должна этого говорить, однако… Из чистой человеческой симпатии и уважения, так сказать. Они такие молодые. Будут еще дети. Не сомневайтесь. А здесь… Всем мука. Всем – и ребенку, и родителям. Последним в особенности. Я-то знаю, во что превратится их жизнь. Так что советую подумать. Настоятельно советую, от всей души.
Высокая женщина свела брови и кивнула:
– Вы правы, безусловно. И спасибо вам за правду. Огромное!
Молодой папаша вздрогнул и вжал голову в плечи. Мать бросила на него строгий, даже суровый взгляд.
Педиаторша вздохнула и пошла к следующим страждущим. Свою миссию она посчитала выполненной.
* * *Люба лежала на узкой жесткой больничной койке и смотрела в потолок – грязно-серый, в желтых подсохших разводах. «Безрадостный такой потолок, безнадежный», – подумала она.
Да что там потолок! Жизнь оказалась куда безрадостнее и безнадежнее. Вбить бы в этот потолок прочный металлический крюк и оборвать одним махом свою жизнь. Просто взять и закрыть эту тему. Раз и навсегда. И не будет больше слез и страхов. Не будет тоскливых, сверлящих голову мыслей: «А что же дальше? Как вообще со всем этим жить?»
Она не спала уже четвертую ночь. Встать с кровати совсем не было сил, а тут еще это бесконечное, словно река, текущее из груди молоко. Молоко, которое не нужно ее ребенку! Не пригодилось вот. Обильное, жирное, пахнущее чем-то сладким.
Боже, какой кошмарный запах – молока, больницы, пригорелой каши и ее страха!
Соседки по палате кряхтели, стонали, жаловались, обменивались впечатлениями, но они жили, им приносили на кормление младенцев! Женщины, не замечая Любу – счастье эгоистично, – сюсюкали с малышами, теребили их за щечки, нюхали жидкий пух на крошечных головках, разглядывали пальчики на руках.
Они кривили от боли лица, когда младенцы, жадно вцепившись в грудь, прихватывали перламутровыми деснами потрескавшиеся соски. Постанывали от боли, закрывали глаза, но… Люба видела, как они счастливы! Нет, не видела: конечно, она не могла на это смотреть – отворачивалась к серой стене и зажмуривалась. Она не видела – чувствовала, какая благость разливается по палате, как замирает, останавливается, а потом звенит, словно хрустальный, воздух. И счастье, огромное, точно пышное и мягкое розовое облако, накрывает этих бледных, измученных молодых женщин и их малюток, сосредоточенно и важно исполняющих свое главное на сегодняшний день дело.
Николаев к окну палаты не подходил. Все подходили и кричали: «Таня, Олька, Светик!»
Тани, Ольки и Светики вскакивали с кроватей и, наспех пригладив ладонями волосы и запахнув сиротские казенные халаты, бросались к окнам.
Иногда подносили к окнам малышей.
А Люба опять смотрела на серую стену, до боли сжимала глаза, губы и затыкала пальцами уши.
Муж написал ей записку. Одну-единственную: «Поправляйся, ешь фрукты, набирайся сил».
Вместе с запиской нянечка принесла пять яблок, пастилу и апельсиновый сок.
Соседка по палате покрутила пальцем у виска:
– Дурак твой! Какие цитрусы? Разве кормящим можно? – потом вспомнила: – А, да ты у нас не кормящая…
Молоко у Любы перегорело накануне. «Все, – сказала она себе. – Я больше не молочная ферма, и слава богу, если уж я своего не кормлю».
Медсестра перевязала ей грудь. Туго, больно, но стало легче. К вечеру поднялась температура под сорок. Люба стряхнула градусник и ничего медсестре не сказала. «Сдохну – и славно! Как будет хорошо!»
А ночью начался бред и судороги. Соседки вызвали дежурного, и ее перевели в отдельный бокс.
Через пару дней принесли записку от свекрови. Та высказывала Любе сочувствие и делилась своими переживаниями – за нее. О ребенке там не было ни единого слова.
Люба сползла с постели и вышла в коридор. Голова закружилась, она только успела выкрикнуть:
– Помогите!
Врач Инна Ивановна сидела на краю кровати и гладила ее по руке.
– Нет, мальчик жив. Про то, что здоров, говорить не будем. Физически чуть окреп, самую малость. Да, в кювезе, но аппарат отключили – раздышался, слава богу. А ты, – она сдвинула брови, – должна держаться! Слышишь? Другого выхода просто нет. Кто, если не ты? Мужики, они, знаешь, девочка… За себя-то частенько не отвечают! А тут за больного ребенка! На мужа не рассчитывай. Струсит. Молодой, трясется, как заяц, аж пот по лицу льется. А свекровь твоя… – Врач помолчала. – На нее не надейся. Не нужны ей ни ты, ни дитя. Так она мне и заявила. Поэтому спасешь его ты и только ты, поняла? Ты, как я знаю, сирота? Детдомовская?
Люба кивнула.
– Тетка есть в Казани, сестра отца. Но она и меня-то не взяла, когда родители погибли. Так, навещала в интернате иногда. Овсяное печенье и леденцы привозила.
Инна Ивановна стояла у окна и молчала.
Потом повернулась и спросила:
– Что делать-то будем, девочка?
– Жить, – тихо ответила Люба.
Инна Ивановна улыбнулась:
– Вот теперь я вижу: у тебя будет все хо-ро-шо. – Она кашлянула и смущенно бросила: – Пойду покурю. Страшное дело – зависимость.
* * *Она вышла из роддома через месяц – одна, без сына: мальчика перевезли в больницу еще на три месяца.
С мужем они не разговаривали. Совсем. Он прятал глаза и старался убежать из дома. Свекровь, придя с работы, однажды жестко бросила:
– А суп не могла сварить? Или хотя бы картошки? Все работают, между прочим. Все делом заняты! Кроме тебя! Валяешься целый день с опухшей мордой и себя жалеешь! А лучше бы мужа своего пожалела! Уж он-то с тобой влип по уши! С тобой и с твоим… – она замолчала, бросила в мойку чашку. Та с жалобным звуком звякнула и разлетелась на мелкие осколки.
– Моим? – переспросила Люба. – А к вам он отношения не имеет? Ваш собственный внук?
– Внук? – свекровь рассмеялась мелким, дробным смехом. – Нет, милая! Он мне не внук! В нашей семье никогда уродов и инвалидов не было!
– Были! И есть, – ответила Люба. – Вы и ваш сын, к примеру.
Свекровь резко развернулась и хлестко ударила ее по лицу.
Мальчик все время спал. Плакал так тихо, что казалось, под шкафом пищит мышонок. Ел по капельке, отворачивался от бутылки и жалобно морщил нос. Даже пустышку не мог удержать. Она подкладывала под щечку свернутую пеленку. Тонюсенькие, как прутики, ручки. Словно две палочки, бледные ножки. А вот волосики были густые, светлые, заворачивались в запятую на затылке. И глаза удивляли – серые, огромные, с темными и длинными ресницами.
Приходила медсестра, делала массаж.
* * *– Какой хорошенький мальчик! – умилялась она. – Чудо, а не ребенок! И спокойный какой! А сил, мамаша, наберет! И тельце нагуляет! Не сомневайтесь даже! Я таких деток видела! Не приведи господи. А ведь родители их вытаскивали. С того света, за шкирку. Любовь, мамаша, главное! Любовь! А с ней-то и черт не страшен!
Люба кивала, утирая ладонью слезы. И в этот момент верила. Абсолютно верила словам этой простой и бесхитростной женщины – все будет хорошо!
Потому что главное – любовь! А уж этого у нее в избытке!
* * *Спустя почти два года после рождения Сережи Люба вспомнила разговор с Инной Ивановной, обещание жить, которое тогда ей дала. Но жить с каждым днем становилось все невыносимее, у нее больше не было сил находиться в атмосфере постоянной ненависти и лжи. И она позвонила Инне Ивановне, нашла ее в отделении, сама не понимая, что творит, ведь, по сути, какое дело немолодому и малознакомому человеку до ее горя.
Инна Ивановна вспомнила Любу и даже назвала по имени, а потом, затянувшись сигаретой, сказала, что через два часа за ней заедет.
– На сборы – всего два часа, поняла? – строго повторила она и положила трубку.
Люба, словно соскочив с раскаленной сковородки, заметалась по комнате, бросая в старый чемодан свои и детские вещи.
Мужа не было дома. Свекровь пила кофе на кухне.
Услышав возню у двери, она вышла в коридор и удивленно приподняла узкую накрашенную бровь:
– Далеко ли?
– Далеко, – коротко бросила невестка. – Так далеко, что, надеюсь, больше никогда не увидимся.
Свекровь, кивнув, усмехнулась:
– Счастливого пути!
Бросив вещи в коляску и подхватив на руки сына, Люба вышла на лестничную клетку и нажала кнопку лифта.
Дверь квартиры с громким стуком закрылась.
Инна Ивановна стояла у такси и, разумеется, курила. Увидев Любу, выходящую из подъезда, бросила окурок и подскочила к ней. Взяла сверток с мальчиком, откинула край одеяльца.
– Ну! – протянула она. – Ты же просто красавец, малый! Прямо Аполлон Бельведерский! Или Вячеслав Тихонов – тоже неплохо!
Люба плакала и смеялась.
Жила Инна Ивановна в двушке на окраине Москвы, почти у самой Окружной дороги.
– Хоромы не богаты, – вздохнула она, открывая простую, довольно обшарпанную деревянную дверь.
Провела Любу в маленькую комнату и сказала:
– Теперь это ваши апартаменты. Располагайтесь. А я пока с ужином чего-нибудь покумекаю. Знаешь, Любаша, хозяйка из меня… Раньше мама готовила, пока жива была. А теперь… Для себя одной готовить-то не будешь. Неохота. Так и гоняю чаи с утра до вечера. С хлебом и маслом. Иногда украшаю стол сыром или колбаской. Такие вот дела.
Люба положила сына на кровать и огляделась. Желтые обои в мелкий цветочек, выгоревшие и отклеенные по углам. Узкая тахта, письменный стол, двухстворчатый древний шкаф с мутным зеркалом и старый торшер с дряхлым абажуром.
Было понятно, что ремонт здесь не делали сто лет.
И еще было понятно, что это – ее дом. Ее и Сережи. Их первый в жизни дом.
* * *Сидеть на шее Инны Ивановны было невозможно. Невыносимо просто. А что делать? Хорошо еще, что она взялась делать Сереже массаж – уже экономия на массажистке. На все остальное едва хватало, даже при их скромнейших запросах. Люба взялась за готовку. И это тоже облегчило положение. Из одной синюшной, вырванной в тяжелых битвах курицы ей удавалось сварить и первое, и второе и растянуть это на три-четыре дня. Придя с работы, Инна Ивановна кричала из коридора:
– Любаша, а первое у нас есть? Так хочется горячего супчика!
Люба ставила на плиту кастрюлю. Едок из Инны Ивановны был самый что ни на есть благодарный. Ела, закатив глаза от удовольствия, и постанывала. Ее худое морщинистое лицо порозовело и округлилось.
– Скоро в юбку не влезу! – вздыхала она. – А юбка-то всего одна!
Люба купила плотной серой ткани и сшила юбку. Обновка пришлась впору. Инна Ивановна прослезилась:
– После смерти мамы никто обо мне так не заботился!
– А вы обо мне? О нас с Сережей? – теперь расплакалась и Люба. В общем, развели сырость на пару.
А с Сережей все было непросто. Правда, вес он понемногу стал набирать, произносил какие-то невнятные слова и даже передвигался по комнате в ходунках. Еще с удовольствием слушал книжки, любил гулять и засыпал под колыбельную, спетую хриплым, прокуренным голосом любимой «Ии». Так он называл их благодетельницу. И еще помогали – нет, просто спасали – Иннины связи. Нашлись и опытнейший педиатр, и невролог, и логопед, и инструктор по лечебной гимнастике. Кто-то брал небольшие деньги, а кто-то консультировал за так, бескорыстно, из уважения к коллеге. В общем, вытягивали Сережу всем миром.