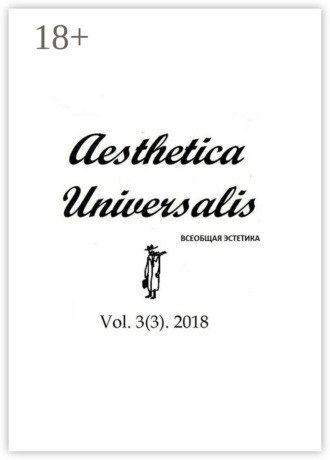
Полная версия
Vol. 3 (3). 2018
Еще его поразило внутреннее убранство крестьянских изб: они были так удивительно расписаны, что находившаяся там мебель и утварь – лавки и сундуки – словно растворялась в цветных мазках и орнаментах. Эти избы вплотную подвели его к переломному открытию:
Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы – все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. По стенам лубки: символически представленный богатырь, сражение, красками переданная песня. Красный угол, весь завешанный писаными и печатными образами, а перед ними красно-теплящаяся лампадка, будто что-то про себя знающая, про себя живущая, таинственно-шепчущая скромная и гордая звезда. Когда я наконец вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее16 («Ступени») [Kandinsky,1974: 118].
Путь внутри крестьянской избы ведет от материального к духовному, от расписной утвари к лубкам, на которых изображены богатыри и святые, последние – на «писаных и печатных образах», висящих в красном углу, а от них – к мерцающей лампадке, молчаливому воплощению пламенной молитвы. Входя в эти «волшебные дома», Кандинский чувствует, что погружается в живопись, открывает для себя, что теперь он может жить внутри нее. Он замечает, что похожее чувство охватывало его в московских церквях, прежде всего в Успенском соборе московского Кремля. «Вероятно, именно путем таких впечатлений во мне воплощались мои дальнейшие желания, цели в искусстве. Несколько лет занимало меня искание средств для введения зрителя в картину так, чтобы он вращался в ней, самозабвенно в ней растворялся» [там же: 109]. Но важнейшим источником вдохновения для Кандинского были его сны, пророческие видения и даже порою горячечный бред: например, заболев тифом, он увидел в лихорадочном состоянии тему своей будущей «Композиции II», посвященной мистерии Спасения человечества. Искусство живописи, вышедшей из иконописной традиции, имеет мессианское предназначение, как считает Кандинский, верящий в визионерские откровения пророков – одно из оснований библейской традиции, согласно которому Бог является людям посредством снов и видений. С особым вниманием поэтому он относится к снам и видениям, запечатлевая их в стихах и в живописи. Для него художественное творчество призвано упорядочить, истолковать видение в том проявлении высшей мудрости, каким является композиция. Главное видение Кандинского – это образ Страшного суда и конца времен, то, над чем великий учитель святоотеческой традиции, преподобный Исаак Сирин, предлагает сосредоточенно размышлять в молитве, предварительно погрузившись в созерцание природы. Так, видение закатного часа над Москвой, метафизический образ Последнего суда, стало главной темой творчества Кандинского: это следует из его духовной биографии, поэтического альбома 1913 года «Звуки» (Klänge)17, об этом говорит и обложка книги «О Духовном в искусстве», увидевшая свет за два года до этого альбома.
Составляющие элементы и инструментарий художестdенного творчества: синтез искусств и науки
Первоначально книга «Точка и линия на плоскости, вклад в анализ элементов живописи», изданная Кандинским в 1926 году в Баухаусе, должна была носить такой заголовок: «Трактат о гармонии в живописи» со следующим подзаголовком: «Трактат о композиции». Цель, которую он поставил перед собой в этом произведении, – изучить средства художественного творчества, которые у каждого из искусств будут своими, однако их резонансы можно определить исходя из контрастов витальных напряжений, которые их определяют и завершаются тройственными системами. Резонансы элементов различных форм искусства, живописи, музыки, поэзии могут соотноситься друг с другом. На основе этой разработки можно определять различные виды конструкций и композиции произведения.
Кандинский достигает высшей точки в своих теоретических размышлениях об искусстве. Он пишет: Одной из важнейших задач зарождающейся сейчас науки об искусстве мог бы быть подробный анализ всей истории искусства разных времен и народов с точки зрения теории элементов, конструкций и композиций с одной стороны, а с другой – установления, во-первых, роста в области трех вопросов: путь, темп, необходимость обогащения художественных средств, во-вторых, скачкообразного развития, которое в истории искусства совершается по определенной линии развития, возможно волнообразной. Первая часть этой задачи – анализ – граничит с задачами «позитивных наук». Вторая часть – вид развития – граничит с задачами философии. Здесь образуется узловой пункт закономерности человеческого развития в целом [Kandinsky, 1991: 18, 19].
В этом заявлении Кандинский утверждается в идее о том, что искусство является не просто парадигмой человеческого действия, – в научном плане, в сфере антропологии оно играет ту же роль, что и математика для естественных наук. Объяснением этой удивительной особенности может быть тот факт, что художественное творчество – место радикального сдвига в человеческом сознании. Качественная оценка, восходящая к сфере абсолютного, становится на место количественной оценки, принадлежащей регистру относительного. Эта качественная оценка гарантирована своим отношением с абсолютом истины, справедливости и красоты, а также тем, что она раскрывается в познании сердца, распахнутого навстречу бесконечному источнику существ и явлений. И тут можно покинуть границы искусства и достичь основополагающего единства:
Исследование должно проходить очень точно, педантично точно. Шаг за шагом надо пройти этот «скучный путь», не упуская из виду ни малейшего изменения в характере, свойствах и в действии отдельных элементов. Только этим путем микроскопического анализа наука об искусстве придет к всеобъемлющему синтезу, который в конце концов распространится далеко за пределы искусства в область «единства» «человеческого» и «божественного» [там же: 21].
Первый шаг в науке об искусстве – выявление резонанса элементов. Кандинский констатировал двойственную природу элементов18. Элемент материализует внутреннее содержание, с которым он связан по самой своей природе. Если бы содержание искусства было лишь внешним, то элемент оставался бы всего лишь частью миметической иллюзии: скучным повторением внешней реальности, материальных объектов. Имитация опасна тем, что она может перекрыть собой истинное содержание, помешать найти для него соответствующую внешнюю форму. Резонанс элементов и человеческой души раскрывается не через внешнее соответствие, но через внутреннюю необходимость. Чистый элемент искусства материализует чисто и вечно Художественное; так же и предметы этого мира больше их самих, они восходят к единому первопринципу – к творящей мир Божественной премудрости. Резонанс элементов основывается на внутреннем и объединяющем их витальном динамизме. Этот динамизм, обнаруживающий троичную природу19, есть путеводная нить в теориях красок, точки и формы, основной плоскости (плоскости-личности, двойного измерения и диагонального структурирования) [там же]. Этот подлинный онтогенез основных элементов живописи закладывает фундамент для созвучия элементов, базу для построения синтеза искусств. Это соответствие отражает единородность элементов и связь художественного творчество с троичной Премудростью, определяющей законы жизни.
Следующая задача науки об искусстве состоит в определении конструкции произведения. Конструкция – это органическое сочетание элементов. Через объединение различных элементов в единое целое она делает их живыми. В самом деле, если бы художественное творчество было ограничено лишь внутренним резонансом элементов, искусство могло бы доставлять лишь удовольствие. Тогда как конструкция делает произведение целостным, и это не просто прибавление резонансов, – оно обретает свой смысл в столкновении элементов. Так, резонансы встречаются друг с другом либо по принципу единства, либо в манере противопоставления. В первом случае конструкция произведения представляет собой лирическую гармонию; во втором случае это будет гармония драматическая. Конструкция, таким образом, противопоставляет элементы в их витальных напряжениях.
Вершина науки об искусстве – это учение о композиции. В теории Кандинского о гармонии композиция имеет первостепенную важность20. В самом деле, конструкция сама по себе может замкнуть произведение в порочном круге системы, исходя из простых формальных постулатов. И Кандинский не раз говорил об опасной ловушке «декоративности». Но композиция, вдохновлённая внутренней необходимостью, будет окончательным воплощением, завершением произведения: она формирует то «целое, которое мы называем картиной». Исходя из общей жизни элементов, лишь сближенных в конструкции, композиция создает гармонию через «подчинение духовным законам». Также если конструкция есть комбинирование живых элементов, то композиция – это поиск их внутренней логики, и цель её – собирание разрозненных форм в гармоническое единство, которое раскрывает смысл, созидает его. В композиции художественное творчество приближается к божественной премудрости, а в самом лучшем случае совпадает с нею21. Кандинский пишет в работе «О Духовном в искусстве»:
И цвет, который сам является материалом для контрапункта, который сам таит в себе безграничные возможности, приведет, в соединении с рисунком, к великому контрапункту живописи, который ей даст возможность придти к композиции; и тогда живопись, как поистине чистое искусство, будет служить Божественному [Kandinsky, 1989: 128].
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Филипп Серс – французский философ, историк и теоретик искусства, преподаватель эстетики и истории искусства в (Институт религиозного искусства Парижского католического университета и Школа архитектуры Париж-Ля Виллет). Основная научная специализация – проблемы психологии художественного творчества, внутренней инспирации художника, индивидуальности творческого опыта. В русле этих интересов профессор Ф. Серс длительное время детально занимается проблематикой творчества и научной деятельности, а также эпистемологическими аспектами творчества В.В.Кандинского. К публикациям на русском языке относятся: Серс, Ф. В преддверии запредельного / Пер. С. Дубина. М.: Прогресс-Традиция, 2001; Серс, Ф. Тотальное искусство и его мессианское содержание / Пер. А. Кузнецовой // Крещатик. №4. 2016; Серс, Ф. Проблема композиции в искусстве авангарда Пер. с Н. Смолянской // Поиски нового языка в философии. Лауреат Большой национальной премии за издательскую деятельность. Основные публикации: «Кандинский: философия абстракции, метафизический образ» (1995), «Диалог с произведением: искусство и критика» (1995), «О Дада: очерк дадаистского переживания образа» (1997), «Иконы и святые образа: репрезентация трансцендентности» (2002), «Авангард: между метафизикой и историей» (книга бесед с Ж. Коньо, 2002), «Внутренний отзвук: диалог о художественном и духовном опыте в Китае и на Западе» (совместно с И. Эсканд, 2003), «Александр Родченко и группа „Октябрь“» (2006), «Революция авангарда» (2012), «Загадка Марселя Дюшана» (2014).
2
Английская версия статьи будет помещена в следующем номере журнала. — Ред. The English version of the article will be published in the next issue of the journal. — Editorial Board.
3
Арина Кузнецова – филолог, переводчик, постоянный участник семинара Филиппа Серса «Художественный авангард и современность»; Бриана Берг – психолог, исследователь кинематографа с позиций психоанализа.
4
Курсив автора.
5
Определение исходной точки занимает важное место в теории Кандинского. Три главные исходные точки – это теория цвета (красок), теория форм и теория композиции. Всякий раз для Кандинского «этой исходной точкой является взвешивание внутреннего значения материала на объективных весах, т. е. исследование – в настоящем случае цвета, который в общем и целом должен во всяком случае действовать на каждого человека» [Kandinsky, 1989: 141]. Напомним, что исходной точкой для теории цвета является наблюдение над теплыми и холодными контрастами и над темным или светлым тоном, для теории форм – это сама точка, взаимодействие между инструментом и основной плоскостью, содержащая в себе все возможные формы в потенциале, а для теории композиции – это точка в центре квадрата. Каждый из этих случаев представляет собою путь (хромогенетический, морфогенетический и композиционный), характеризующий развертывание всех творческих возможностей. См. об этом: [Sers, 1995, 2016].
6
Ф. Серс использует прилагательное neptique, от греч. nepsis, означающее аскетическое трезвение, предписываемое авторами «Добротолюбия». (Прим. перев.) Плодом аскетического отказа является очищение сердца, делающее возможным восприятие божественного вдохновения (см. примеч. 21).
7
Флоренский сравнивает этимологию слова истина в древнееврейском, греческом, латыни и русском. Славяне, наблюдая смену природных циклов (зимнее умирание, весеннее воскресение), считают, что истинны не собственно явления, а движущая ими жизнь. Так, истина означает «пребывающее существование»; это «живущее», «живое существо», «дышащее», т. е. владеющее условием жизни и существования» [Florensky, 1975: 17].
8
У истоков идей альманаха Der Blaue Reiter («Синий Всадник») – интуиции Кандинского и Франца Марка. Духовное начало – источник всех великих произведений искусства, каким бы ни было их происхождение и эпоха, принадлежат ли они к фольклору или к просвещенной культуре. Впервые в этом альманахе появляются рядом репродукции новейших произведений искусства, гравюры на дереве из старинных рукописей, произведения античности и «примитивное искусство», японские эстампы, китайская живопись, готическая скульптура, детские рисунки и картины Анри Руссо. Произведения Делоне помещаются рядом с Эль Греко, Гоген соседствует с античным барельефом, Пикассо – с детскими рисунками, Сезанн – с вышивками XIV в., Ван Гог – с японскими эстампами. Предпочтение отдается народному искусству, марионеткам или баварским стеклянным картинкам, а также главным произведениям современных художников, таких как Пикассо и, конечно, Матисс, который, согласно Кандинскому, сыграл важнейшую роль в современном ви́дении цвета и формы.
9
Так, Кандинский пишет в «Кельнской лекции» в 1914 году: «Рождение художественного произведения носит космический характер. Создатель произведения – Дух» [Eichner, 1958: 110].
10
Полностью он называется «Добротолюбие священных трезвомудрцев, собранное из святых и богоносных отцов наших, в котором, через деятельную и созерцательную нравственную философию, ум очищается, просвещается и совершенствуется».
11
Здесь можно вспомнить прекрасные слова Симоны Вайль о любви к миру: «Любовь к тому, как устроен мир, к его красоте… есть дополнение любви к ближнему. Она проистекает из того же источника, что и смирение Бога, творческое удаление Бога. Бог дал существование вселенной, решив не управлять ею, хотя мог бы, но он предпочел оставить вместо себя, с одной стороны, механическую необходимость, привязанную к материи, в том числе и к психической материи души, с другой стороны – сугубую независимость мыслящих существ. Любя ближнего, мы подражаем божественной любви, сотворившей нас и нам подобных. Любя мир, мы подражаем божественной любви, создавшей нашу вселенную и ее часть – нас самих. Человеку незачем отрекаться от власти над материальным и психическим мирами, потому что он и так этой властью не обладает. Но Создатель наделил его неким образом этой власти, воображаемой божественностью, чтобы он тоже имел возможность, даже будучи Его творением, отказаться от своей божественности» [Weil, 1950: 161, 162].
12
Второй Никейский собор, на который напрямую ссылаются Тридентский и Второй Ватиканский соборы, утверждает согласование и взаимосвязь ре-презентации таинства и евангельского послания, поскольку и то и другое основано на Откровении. Икона и евангельская проповедь согласуются между собой, взаимно отсылают друг к другу, указывают друг на друга, раскрываются друг в друге: «…сохраняем все церковные предания, утвержденные письменно или неписьменно. Одно из них заповедует делать живописные иконные изображения, так как это согласно с историею евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Бог Слово истинно, а не призрачно вочеловечился, и служит на пользу нам, потому что такие вещи, которые взаимно друг друга объясняют, без сомнения и доказывают взаимно друг друга» [Lamberz, Uphus, 2006: 317—345]. Мы видим здесь мистическое, катехизаторское и богослужебное призвание совокупности слова-образа – служить встрече со Христом и евангельскому свидетельству.
13
Речь идет о т. н. «Новой вещественности», направлении, возникшем в Германии в 1920-е годы, которое предъявляло политические и социальные требования к искусству.
14
«Romantische Landschaft», 1911. Эта картина осталась у Габриеле Мюнтер, что и объясняет ошибку Кандинского в датировке. На ней изображены три всадника, спускающиеся с возвышенности. Пейзаж едва намечен, сверху доминирует ярко-красное солнце, с которым контрастирует большое черное пятно снизу и справа. Слева поднимается скала, очень похожая на скалу из «Композиции II» 1910 года. Кандинский приводит пример произведения на тему Апокалипсиса.
15
Автор употребляет глагол présentifier – дословно «давать присутствие». (Прим. перев.)
16
Мы дополнили перевод согласно замечаниям Ж.-К. Маркаде.
17
Кандинский собирался издать русскую версию этого альбома, но это ему так и не удалось. Нужно отметить прекрасное издание, осуществленное уже в наши дни Борисом Соколовым: Кандинский, В. Звуки, Москва, Кучково поле, 2017.
18
Известно, что элементы искусства имеют двойственную природу. Так, краски, формы и звуки имеют внешнюю природу, связанную с внешней стороной вещей. Желтый может ассоциироваться со вкусом лимона или с жаром солнца, с пронзительным звуком, с сигналом тревоги и т. д. Но те же самые элементы обладают ещё и внутренней природой, которая открывается нам при пробуждении нашей собственной чуткости к духовному. Тогда проявляется витальный динамизм, внутренний резонанс элементов, составляющий язык души, которым пользуется художник. В этих теоретических наблюдениях Кандинский выделяет внутренние резонансы цветов, точки, линий и форм, а также «основной плоскости» (Grundfläche), которая является носителем изображения. Он также соотносит их с элементами, связанными с другими типами восприятия, в частности с музыкальными элементами. В живописном, поэтическом и сценическом творчестве, равно как и в преподавательской работе, он постоянно изучал эти внутренние резонансы и их взаимоотношения, подвергая проверкам свой собственный труд, а также работы учеников и реакции зрителя.
19
Теория цвета также объеднияет две триады: синий, желтый, зеленый; красный, оранжевый, фиолетовый. Теория форм, рождающихся из единой точки, завершается триадой – квадрат, треугольник, круг. Для каждого из элементов обнаруживается духовный резонанс благодаря наблюдению над напряжениями или внутренней динамикой самого элемента. См. об этом: [Sers, 1995; 2016].
20
Термин «композиция» может иметь у Кандинского два разных значения. Сначала он употребляет его для подразделения своих картин на «Впечатления», «Импровизации» и «Композиции»: Впечатления – некие заметки, фиксации проявлений внешнего мира, Импровизации приходят изнутри, а Композиции суть комбинации того и другого. В более широком смысле создавать композицию (со-членять, со-чинять, со-полагать) – это соединять в организованное целое то, что человеческий опыт воспринимает как беспорядочную последовательность. Композиция, следовательно, есть инструмент выявления смысла: она есть осмысленное упорядочение элементов, предназначенное для передачи зрителю или слушателю ощутимого и решающего переживания истины.
21
Вот почему художник создал всего десять «композиций» (в первом смысле слова). Композиция выражает логику сотворения мира. В свой «гениальный» период, между 1908 и 1912 гг., Кандинский создает апокалиптические композиции. В «ненарративный» период, после 1914 года, он рассказывает о возможных мирах и существах, о том, чего не может продемонстрировать нам наука, но что искусство способно «во-образить».

