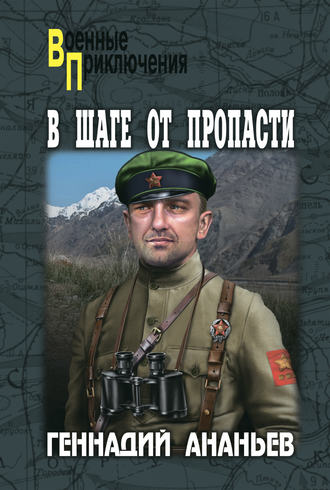
Полная версия
В шаге от пропасти
После таких бесед, которые повторялись в своей основе в каждом новом кабинете, Богусловский возвращался в устланную кошмами и обитую коврами комнату в караван-сарае и ждал следующего дня. О многом он передумал, много планов, интересных с его точки зрения, рождалось в долгие часы ожидания.
И вот ему сообщают: ждут дела. Радоваться бы, а оно вон как обернулось. Тоска неуемная навалилась.
Стародубцев же, вовсе не замечая состояния Богусловского, продолжал:
– Решили мы доверить тебе ответственное дело: организацию охраны границы Туркреспублики в Семиреченской области на наемно-добровольном принципе. Подберем мы тебе десяток крепких помощников из красноармейцев-коммунистов, из военспецов, и, как говорится, – большого полета.
И разочарованность, и удовлетворенность, даже гордость – все одновременно. Молодо-зелено, а уже командир, если по прежнему штату, отряда, а то и выше бери – отдела. Но лелеял он мечту стать штабным работником. Была она, согревала душу, будоражила мозг и вдруг – совершенно неожиданное, негаданное. Такова армейская доля. Пограничная доля. Не согласен если, кто тебя держать станет? Скатертью дорога на все четыре стороны. Но тогда ты, хочешь или нет, станешь если не врагом, то и не союзником рождающейся свободной России.
– Срок отъезда?
– Сутки на сборы. До станции Бурное – в вагонах. Дальше путей нет, дальше – верхом. Маршрут определите сами. Достаточно будет времени приглядеться и к подчиненным, оценить возможности каждого. Мандат получите с большими полномочиями, но не забывайте: полномочия останутся полномочиями, если пренебрегать решительной настойчивостью. Думаю, понятно?
Богусловский даже улыбнулся, вспомнив встречу со Стародубцевым и представив себя на его месте.
– Не берите под сомнение мой совет, – еще настойчивей заговорил Стародубцев, осерчав на улыбку Иннокентия. – Интеллигентская мягкость сегодня не ставится ни в грош. Если хотите быть на высоте положения – наступайте, атакуйте, не давая возможности возражать или даже советовать. Повторяю: только твердость может гарантировать успех. Весь мой опыт этому учит.
Не стал полемизировать Богусловский. У него есть свое мнение, но этот самоуверенный человек не станет его слушать, а время дорого, тратить его на словопрения очень жалко. Понимал, однако, Богусловский, что поступал неверно, молчаливо выслушивая и, стало быть, поддерживая не столько целеустремленность, сколько наглую чванливость. Он, Богусловский, жалея время, промолчал, другой промолчит, третий, глядишь, человека, и без того не обремененного скромностью, вовсе не узнать. Непогрешимым в поступках себя видит, не терпит никакого возражения. А многим и непонятным будет, отчего это, как родилось, как выпестовалось? От лености нашей. Делай, мол, свое дело добротно, а остальное – мелочь, суета сует. Но может, и от робости?
– Если все ясно, – продолжал тем временем Стародубцев, – тогда – за дело.
Вскачь понеслось время, закусив удила, не передернешь повода, не осадишь. Увы, далеко не все чувствовали эту стремительность. Накладные выписывались и визировались с черепашьей неспешностью, а каптенармусы, прежде чем выдать положенное, долго вчитывались в каллиграфические строчки, словно в руках держали папирус с неведомыми иероглифами и пытались распутать великую тайну седой древности. Обстоятельными, раздумчивыми были и напутственные беседы. И, как казалось Богусловскому, вовсе лишними, ибо все они заканчивались примерно одной и той же фразой:
– Опыта пограничного вам не занимать, на месте сориентируетесь и станете действовать, сообразуясь с обстановкой…
Но как бы ни волокитилось время, в урочный час все было погружено в вагоны, прицепленные к попутному составу, паровоз пронзительно визгнул, прошипел змеино паром, натужно лязгая, пробуксовал раз-другой, затем захлебывающийся лязг прокатился от вагона к вагону, и поезд тронулся.
– Можно и отдых устроить себе, – вроде бы не командуя, а лишь советуя, проговорил комиссар Владимир Васильевич Оккер. – Мы заслужили отдых…
Предупреждая возможное возражение командира, снял фуражку, выгоревшую, с потрескавшимся козырьком, бросил ее на нары и добавил утвердительно:
– Да, заслужили…
Богусловский собирался сразу же, как тронется поезд, провести совещание, а предложение Оккера нарушило его планы. Задело это командирское самолюбие. Но сдержался Богусловский и, видя, как поспешно принялись вслед за Оккером красноармейцы и краскомы распоясываться да снимать фуражки, бросая их на облюбованные места, тоже снял фуражку.
Увы, смежил веки Богусловский лишь под самое утро. Вначале думал об Оккере, который безошибочно уловил настроение всех и преподнес ему, командиру, приличный урок. Нет, не принимал душой поступка Оккера Богусловский, но в то же время не мог не согласиться с разумностью его совета. Приказа, по сути…
С Оккером его познакомили только накануне отъезда. Представили коротко:
– Командир. – Кивок в его, Богусловского, сторону.
– Комиссар. – Кивок в сторону Оккера.
Оккер был в красноармейской форме, изрядно поношенной и основательно выгоревшей, но затрапезно не выглядел: форма сидела на нем ловко.
Богусловский почувствовал сразу волевую силу в этом человеке.
Комиссар подал руку. Жесткую.
– Потомственный рабочий. С Красной Пресни.
– Пограничник. Тоже потомственный.
– Вот и добре. Думаю, сработаетесь, – удовлетворенно констатировал познакомивший их начальник. – Должны. Точнее, обязаны.
«Если самовольничать и дальше станет, – думал теперь под стук колес Богусловский, – не сработаемся. Оттеснить себя не дам…»
Он долго обдумывал, как ему вести себя с комиссаром, чтобы и авторитета его не рушить, но и свой блюсти безущербно, но постепенно мысли его переключились на более важное: он стал систематизировать все напутствия, но больше всего думал о том, с чего начинать в Семиречье и каким маршрутом туда добираться. От железной дороги путь поначалу ясный: Аулие-Ата – Пишпек. А дальше? На Верный через Каскелеи? А может, на Чолпон-Ату, а затем в Кеген, Чунжу, Джаркент? Там казачий пограничный гарнизон. Там наверняка казаки продолжают охранять границу. Но Верный – центр Семиреченской области. В нем – большая крепость. Обосноваться рекомендовали там и уже оттуда посылать на границу уполномоченных. Вроде бы верно все, но от границы Верный далековат. К тому же, как говорили перед отъездом, там кулацко-байские элементы имеют крепкие позиции, пользуясь поддержкой большой части семиреченского казачества.
Вот и выбирай. Вот и прикидывай, как выгодней поступить, где разумная середина?
А поезд на перегонах лязгал надоедливо колесами, на остановках же осмотровые бригады шумной стаей налетали на состав, стучали молоточками по колесам и осям, громко перекликались – все это не давало ни сосредоточиться, ни заснуть.
И тоска не проходила. Притупилась, как хронический недуг, ослабла, но продолжала скрести сердце.
Утро тоже не внесло ясности. Позавтракав всухомятку, расселись чинно по нарам на совещание. Вопрос пока один: маршрут. И сразу началась перепалка. Одни ратовали за степной путь, другие – за горный, мимо Иссык-Куля. Противились из-за воды, корма для коней, возможности обеспечить питанием себя. Помалкивал лишь Оккер, с иронией поглядывая на разгоряченных товарищей. И только когда выговорились все не единожды, поднялся с нар и, встав рядом с Богусловским, который терпеливо слушал споривших и внимательно вглядывался в их лица, заговорил с легкой усмешкой:
– Спора нет, предмет разногласий заслуживает пристального внимания. Пристального, однако же не главного. Считаю, определять путь наш должна политическая обстановка. Да-да, именно – политическая! – жестко закончил он и глянул на Богусловского, чтобы определить его отношение к сказанному.
Богусловский кивнул одобрительно.
«Смышленый. Уверенный. На Костюкова чем-то похож».
А Оккер продолжал:
– Второе направление нашей мысли – охрана границы. Где удобней для этой цели нам обосноваться, где лучшая возможность привлечь добровольцев? Лошадей, уверяю вас, мы сможем прокормить. Себя тоже. Если живы будем.
Примолк вагон. Это тебе не сено с овсом, тут поразмыслить нужно. Крепко поразмыслить. Да и знать побольше того, что они знают о Семиречье.
Поспокойней заговорили, повесомей слова стали. Но мысль одна – окончательно определить маршрут в Пишпеке.
До конечной станции добрались без особых происшествий, если не считать довольно долгой стоянки в Арыси. Их вагоны поставили на запасный путь и, казалось, забыли о них. Но когда Богусловский, сопровождаемый Оккером, который для верности был при сабле, маузере да еще с карабином за спиной, предъявил мандат, а Оккер, словно по дурной привычке, от нечего делать, начал перекидывать, как игрушку, деревянную кобуру маузера из ладони в ладонь, начальник станции тут же распорядился прицепить вагоны к отходящему на Чимкент составу.
– Вот видите, а вы не хотели идти, – упрекнул Богусловского Оккер, когда они, довольные удачной концовкой визита, возвращались к своим вагонам. – Нет, вы явно оторвались от жизни в своем пограничном гарнизоне. Она, Иннокентий Семеонович, ой как круто поменялась.
– Никогда я не соглашусь с вами, – возразил Богусловский. – Если человек остался служить, он должен выполнять свое дело. Революция же не означает хаос.
– Служат, но вредят. Пакостят каждый в меру своих возможностей и способностей.
– Увольнять таких следует! Они же дискредитируют саму суть революционного переворота.
– Спуститесь, Иннокентий Семеонович, на землю грешную с памирских высот.
– Нет-нет, ни понять, ни тем более согласиться не смогу никогда! Сбросив рабство, задохнуться может Россия в неурядицах деловых. Каждый должен делать свое дело и отвечать перед обществом за него полной мерой. А если всякий раз, чтобы решилось дело, маузером пугать – далеко зайдем. Не приемлю этого!
Тем не менее в Чимкенте, где их вновь отцепили и загнали в тупик, Богусловский не стал ждать, пока о них вспомнит само железнодорожное начальство. По полной форме, с шашками и маузерами, нанесли Богусловский с Оккером визит в городской Совет. Итог радостный: овес и сено, хлеб, крупа, консервы выделены обильно, а начальнику станции велено немедленно сформировать, пусть неполный, состав и отправить в Бурное…
Для верности к начальнику станции Оккер сходил сам.
Это тоже возымело действие: вскоре состав из десяти вагонов выкатил из Чимкента и ходко понесся мимо пыльных полустанков сквозь бесконечную пыльную степь.
Метко окрестили эту чрезмерно обласканную солнцем и забытую богом, жаждущую получить хоть глоток воды пустыню: Голодная степь. И не всю ее им удастся пересечь в вагоне, предстоит еще по этому безжизненному горячему однообразию ехать верхом…
Но когда они выгрузились и, уложив в повозки фураж, продукты, оружие с боеприпасами, тронулись на восток, к своему удивлению и огорчению, выяснили, что степь не безжизненна, а обжита, исполосована дорогами, не очень торными, но заметными. А им говорили, что до Аулие-Аты проводника брать не нужно – дорога одна, с пути не сбиться.
Сколько раз Богусловский упрекал себя за то, что поверил этому утверждению, особенно когда подъезжали к очередной развилке и начинали гадать, куда направить коней. Благо что встречались в степи и юрты. Правда, не каждая юрта гостеприимно откидывала полог и зычный голос успокаивал злобных собак, иной раз так никто и не отзывался.
Двигались с горем пополам через пустыню все же в нужном направлении, и, чем ближе подъезжали к Аулие-Ате, тем чаще попадались не только одиночные или парные юрты, но и целые аулы из юрт, а то и из глинобитных плоскокрышных домишек. Встречали тоже по-разному. То барана зарежут и кумысом вволю напоят, а то еще издали спустят свору собак.
К таким юртам не сворачивали, если даже очень нужно было расспросить дорогу.
На исходе степи стали попадаться хохлацкие и староверческие села – Алексеевки, Николаевки, но чаще Подгорновки. Осанистые, с пышными садами, с вольными пашнями. Неприветливые села. Только когда видели всадники красный флаг, обычно на выселках, – подъезжали безбоязненно. Коммунары охотно делились с пограничниками небогатой своей пищей, не жалели сена лошадям и несказанно радовались, когда получали от отряда две-три винтовки и цинк патронов.
Тревожные беседы велись за вечерним чаем. Коммунары рассказывали, что кулачье сбивается в шайки, обзаводится не только винтовками, но и пулеметами. И все она – землица. Пусть не осилю, пусть овсюгом зарастет, но не отдам никому. Мое есть мое.
– Не взять добром у них, что нахапали, у нас же нахапали, – с сожалением говорил кто-либо из коммунаров, и все соглашались с ним.
В Аулие-Ате Богусловского несколько успокоили, заверив, что имеют достоверные данные: крепость в Верном у красных казаков. Но уже через несколько дней, когда они добрались до Пишпека, там узнали совершенно противоположное: крепость поднялась против большевиков. Какие дела в пограничных гарнизонах, никто толком ничего не знал. Богусловский собрал совет.
На этот раз никто уже не говорил об овсе и сене. Путь определяли взвешенно. Приняли горный вариант – тропами Пржевальского. Главный фактор таков: бедные чабаны дружелюбней домовитых хохлов-переселенцев и зажиточного казачества, к тому же киргизы менее вооружены.
Пару дней на сборы. Брички заменены вьючными лошадьми, строевые кони перекованы, потники старательно почищены, а к седлам прикреплены накрупные ремни (чтобы на спусках не съезжало седло на холку и не наминало ее) из сыромятной кожи, основательно пропитанной дегтем. Сена с собой не стали брать, ибо все предгорье уже было в густом разнотравье, среди которого рваными островами алели маки. Да и проводник, взявшийся показать дорогу до Иссык-Куля, утверждал, что травы по дороге будет вволю.
Первые километры среди изумруда трав и пламени маков радовали путников, но вскоре холмистое однообразие начало угнетать, и глаз невольно тянулся вдаль, к нахлобученным на вершины снежным папахам. Но пламенные маковые острова назойливо лезли в глаза, никак от них не отделаешься.
– Смотришь на маки, и оторопь берет, – словно серчая на кого-то, говорил Оккер. – Оттого, думаю, столько легенд о маке… Своя у каждого народа.
– Только суть у них у всех одна, – поддержал разговор Богусловский. – Капли крови борцов со злыми силами, с захватчиками, с притеснителями, борцов не за свое счастье, а за счастье всех.
– Логично бы тогда святыми почитать эти цветы, – усмехнулся Оккер. – Так нет, рвут их люди охотней других, топчут без всякой жалости эти огненные капли крови великих храбрецов. Парадокс…
– Не вижу несоответствия со здравым смыслом, – возразил Богусловский. – Жить лишь памятью, не означает ли это петь только панихиды? Пусть в памяти останется святость, жизнь же пусть живет. Полно живет, во весь размах. По мне, так каждое поколение просто обязано оставлять о себе легенды.
– Мы-то оставим, спору нет. Вволю их наберется. Добрых и недобрых.
– Поживем – увидим, – неопределенно ответил Богусловский и пришпорил коня. Не хотелось ему продолжать разговор, который вдруг крутнул в иную сторону.
Спустились в ложбину, будто грязный хребет какого-то чудища выдавился из земляной глубины, растолкав и зелень травы, и маки, но обезножел и теперь набирается в спокойной неге силы, чтобы еще разок напрячься и распрямиться, подняться в полный рост… И не замечало чудище, что бока слезятся от солнечной горячей ласки.
– Сказка! – восхищенно воскликнул Оккер. – Истинно сказка!
– Нет, – возразил Богусловский. – Жизнь реальная. Частенько и люди так: пыжатся, а бока у них тают.
Удивленно посмотрел на Богусловского Оккер. Он не понял своего командира, ибо не знал его мыслей, его ассоциаций.
Нет, не складывался у них разговор. Что-то мешало им раскрыться полностью, а ведь они понимали, что долог их путь стремя в стремя. Да и сторожиться друг друга вроде бы причин нет. Оккера Богусловский выделил сразу, почувствовал он и ответную симпатию. И надо же – стоило лишь перейти на разговор, не касающийся службы, как тут же он стопорился и каждый из них чувствовал сдержанность собеседника. Недоумевая по поводу этого, они тем не менее ничего не предпринимали, чтобы откровенно объясниться.
Тропа все теснее, все круче подъемы и спуски, а местами скалы подступают вплотную, и тогда кажется, что воздух, привыкший к полной тишине, дрожит испуганно от цокота подков, да и скалы пугливо отшвыривают чуждые им звуки, и они мечутся по теснине неприкаянно, заполняя собою все, что можно заполнить.
В таких местах всадники замолкали, лошади возбужденно прядали ушами.
После одного такого, очень глубокого и очень длинного расщелка, по дну которого журчала торопливая речушка, перед утомленными путниками вдруг распахнулся неохватный простор нежной голубизны. Будто небо, раздвинув горы, расстелило себя под копыта коней до самого горизонта. Богусловский натянул повод.
– Иссык-Куль! – восторженно выдохнул кто-то. – Горячее озеро. Красиво!
– Вот оно какое! – столь же восторженно воскликнул Оккер. – Природный уникум!
Полюбовавшись бездонной голубизной, спокойно чувствующей себя в ореоле хмурых с седыми вершинами-головами скал, двинулись по правому берегу озера, вначале по узкой прибрежной полоске, но вскоре горы начали постепенно отступать, появились деревья, вольные, могучие, и ехать стало легко и просторно, а тень и ветерок, который постоянно тянул с озера, приятно освежали. После застоялой духоты каньона все это воспринималось как земной рай.
Повстречалась первая рыбацкая артель. Русские, киргизы и казахи. Рыбаки только что вернулись с удачливого осмотра сетей и на радостях предложили пограничникам остаться на уху.
Пока чистили рыбу, еще живую, пока разжигали очаг, Богусловский и Оккер беседовали со старшим артели, назвавшимся Василием. Выясняли более легкий путь на Чунжу.
– Я вам проводника дам. Кегенские у меня есть. Рады будут рыбки домой переправить. Лошадью только его обеспечьте.
Нежданный подарок. Теперь не придется больше двигаться на ощупь. Сколько будет сэкономлено и времени, и сил. И путь, как пояснил Василий, не озорной.
– В степи зорует, слухи ходят, сволочь всякая. Насильничают, грабят. А здесь – бог миловал пока.
Значит, верный маршрут избран. Пусть немного длиннее, но зато безопасней.
– Большевистскую власть без огляда приняли здесь. Кто побогаче, знамо дело, насупились, но пока, слава богу, помалкивают. А дехкане, чабаны да мужики, что на земле сидят, те сразу быков да ослов в упряжь – и давай Пржевальского стаскивать. Генерал ить царев.
– Что?! Уничтожили памятник?!
– Не совладали. Крепок шибко, – ответил Василий безразлично, затем также безразлично спросил: – Жалко, что ль? Иль родственник?
– Пржевальский – патриот России. Он – история России!
– Кто ж его разберет… – все так же равнодушно ответил Василий. – Генерал он и есть генерал. Одного поля ягода.
С простодушной искренностью было это молвлено, и именно от этой незлобивости, от этого полного безразличия оторопь взяла Богусловского. Как же так?! Отсечь пуповину – естественно, но как остаться без материнской груди, если грудь, и это тоже естественно, не родилась вместе с новорожденным, а была прежде. Что? Навышвыр ее? Пагубна позиция: «Кто ж его разберет…», пагубна непредвиденностью последствий. И Богусловский, горячась, и оттого не очень-то последовательно, но пылко и потому по-своему убедительно, принялся втолковывать, какую роль для России, для тех же киргизов, для староверов, что сгоняли к памятнику быков и ишаков, сыграл Пржевальский.
– Нельзя же, поймите, стричь под одну гребенку крепостника-кровопийцу и величайшего русского ученого. Кощунственно это!..
– Верно вроде бы все, если по-твоему рассудить. Только на митинге давеча нам иное сказывали: раз генерал, выходит, одна ему дорога – под корень.
– Да кто посмел такое?!
– Большевиком назвался. Из Пишпека. Из тех, которые грамотные, ученые. Что и ты говорил, только иначе как-то. Во вред, мол, все генеральские дела. В колонии, сказывал, собирался киргизов угнетать. А им, бедолагам, и без того податься некуда. Стригут, что овец. Под нулевку норовят.
Это было выше понимания Богусловского. Он не мог поверить, чтобы просвещенный человек хулил Пржевальского. Такое мог делать только враг России. Только враг мог возбудить народ, играя на его справедливой ненависти к притеснителям и лихоимцам, против тех, для кого благо России и могущество ее были превыше всего, возбудить народ против своего же прошлого, против груди материнской.
– Поймите же, обкрадывают вас! Духовно обкрадывают. Дети наши, внуки наши не найдут доброго слова для нас, если мы проведем запретную черту между прошлым, нынешним и будущим!
– По мне, так: хватит на мой век рыбы в озере, тогда и детям останется.
– Не тратьте попусту энергии, Иннокентий Семеонович, – вмешался в разговор Оккер. – Ну одного наставите, а что делать с тысячами, с сотнями тысяч? То-то.
– Верно, – поняв по-своему Оккера, поддержал рыбак. – Чего безрыбью воду сквозь невода цедить. К ухе пора. Да с проводником сговориться.
Уха была навариста, душиста, как всякая уха, сваренная из свежей рыбы, положенной без экономии. Воистину за уши не оттянешь. Молча и сосредоточенно работали ложками рыбаки, отирая то и дело потные лбы шумливо, вприхвалку пограничники. И только Богусловский не усердствовал над своей чашкой. Уха ему тоже нравилась, но полностью отдаться трапезе, забыть разговор с Василием Иннокентий не мог. Он был уверен, что от памятника не отступятся. Он представлял себе, как сделанный старанием многих искусных людей памятник великому сыну России покачнется от взрыва и рухнет на землю – Богусловский даже ощутил боль, будто сам валился с пьедестала.
«Сколько их в империи – памятников достойных! Что, все – динамитом? Нет, следует спасать. В Ташкент – депешу. В Москву! При любой встрече наставлять людей. Особенно когда к месту доберемся».
Вроде бы успокоить должно было Богусловского это умозаключение, но вопреки здравому смыслу та тоска, к которой он уже привык и даже не замечал ее, – та хроническая тоска обострилась и до боли сдавила сердце. Какая уж тут уха?
Никому не было дела до дум и чувств Богусловского. Мелькали ложки, остановки делались только для того, чтобы отереть тыльной стороной ладони взопревшие лбы. Вот она, вековечная традиция простолюдия: пока я ем, я глух и нем.
И совсем неожиданно и даже неуместно прозвучал голос Василия:
– Ты, командир, приглядись к кегенцам, пока они за едой. Мы как определяем: каков в еде, таков и в труде. Вон те, особняком что, все семиреченские. Любой согласится, кого выберешь в проводники. Слова русские все они сколь-нисколь, но калякают. А понимать – как есть понимают весь разговор наш.
Поглядел Богусловский на кегенцев. Одеты, как все рыбаки, в стеганки из «чертовой кожи», замызганные настолько, что непонятно какого цвета, в такие же лоснящиеся от налипшей чешуи и слизи штаны, заправленные в яловые добротной работы сапоги. Кегенцы отличались от остальной артели только редкобородыми скуластыми лицами. Словно братья, сидели они тесным рядком, ели неспешно и чинно, с чувством внутреннего достоинства. По меркам русского нанимателя они не годились в отменные работники, да Богусловского и не интересовало, жаден ли до еды будущий проводник. Лучшим качеством в человеке Богусловский считал доброту и сейчас приглядывался, у кого из семиреченских казахов самое доброе лицо. Все казались ему одинаково достойными выбора.
– Ну как, приглянулся кто? – полюбопытствовал Василий через какое-то время. – Позвать?
– Не нужно, я сам, – ответил Богусловский и перешел, взяв свою почти полную чашку, к дружному рядку казахов. Те потеснились, освобождая Богусловскому место в центре, и заприглашали наперебой:
– Жогара чикингиз…
– Проходит перед…
Сколько раз он слышал это традиционное приглашение казахов, которое уважительно произносилось у распахнутого полога юрты, сколько раз переполняло его чувство благодарности к доброму степному народу, ибо у злого и завистливого не может быть столь бескорыстного гостеприимства. Вот и теперь он с благодарностью опустился на траву в тесный ряд сердечно встретивших его людей. Помолчав немного, спросил:
– Кто сможет проводить нас до Кегена? Горы не любят слепых котят…
– Верно, – закивали казахи. – Ой как верно. – Затем заговорили между собой, определяя, кому ехать.
Сообщил мнение всех старший по возрасту, лицо которого уже тронули бороздки времени:
– Сакен поедет. Молодая жена скучает у него.
Каждому из них хотелось воспользоваться счастливым случаем, чтобы побывать дома, но все добровольно уступили самому молодому. Не ведали они, что искренняя доброта их обернется великим испытанием для их товарища.
Но кто и когда может определить, что станет с нами завтра? Знал бы где упасть – соломки бы постелил…






