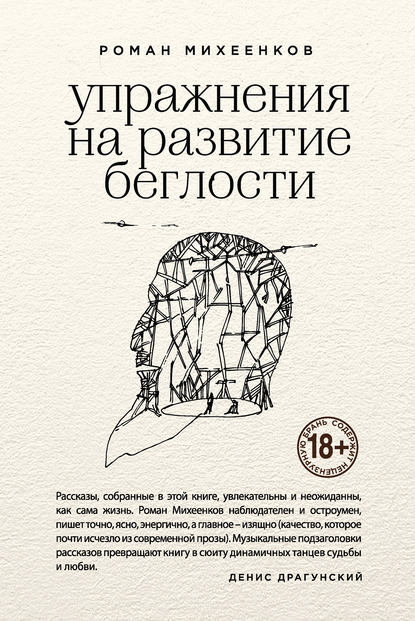Полная версия
В поисках прошлогоднего снега
А жить интересно! – с удовольствием опять подумал Симон.
– Я зажмурился, как полагается в таких случаях. – И не-Мармеладов показал Симону, как он это сделал. – Покрутил головой в надежде стряхнуть дурман и как-то урезонить расшалившуюся действительность, но тщетно: классики не исчезли – напротив, как ни в чем не бывало ели пирожное со сливками.
Тогда я строго сказал (а я всегда после пива бываю очень строг):
– Девочки, вы кто?
– А вы? – с вызовом спросила девушка справа: открытый лобик, косой пробор, длинненький острый носик и, если приглядеться (и даже если не приглядываться!), усики над губкой; и все аккуратненько так, по-женски, тонкой кисточкой, невыразимо!..
– Я? – сказал я. – Ну, тогда я – Кюхельбекер.
Классики рассмеялись.
– Не похож, – сказала другая – смуглая, кудрявая и юная, как Пушкин в лицее.
– Да? – сказал я. – Ну, тогда – Анна Керн.
Классики опять рассмеялись: настроение, значит, хорошее.
– Что? – говорю. – Тоже не похож?
– Ну, не очень, – ответила Пушкин.
– А вот вы – так о-очень!.. – говорю я.
– Что – о-очень? – передразнила меня Гоголь.
– Похожи, – отвечаю я.
– На кого? – спросила Пушкин.
– Да на самих себя.
Великие писатели посмотрели друг на дружку и усмехнулись.
– Очень остроумно, – сказало солнце русской поэзии и откусило пирожное, измазавшись сливками.
Я опять пропустил бокальчик, закусил для смелости другим и так прямо (а я человек прямой!) заявляю:
– Я узнал вас: вы – Пушкин, а вы, конечно, Гоголь!
Классики расхохотались, притворно бурно, а пуще Гоголь, смущенно прикрывая усики над губкой.
– Жизнь, значит, вечна? – продолжаю я. – Душа в заветной лире ваш прах пережила…
– Вы сумасшедший? – спросила меня Гоголь и, обернувшись к подруге, сказала: – Нам пора, Шурочка.
– Идем, Ника, – ответила Пушкин.
Заметьте, Ника и Шурочка! А? Каково?! Как вам понравится эта история, сударь?
– Очень нравится! – искренне ответил Симон.
Я, значит, за ними, мол, коль посчастливилось, такая честь, сподобился и все такое, позвольте вас спросить… А Пушкин мне орет:
– Отстань, теребень кабацкая! – и тростью, тростью!..
– А трость-то откуда? – удивился Симон.
– А догадайтесь с третьего раза.
– Признайтесь, вы все это выдумали, – наслаждался Симон.
– А это откуда? – И не-Мармеладов указал на свой лоб с шишаком.
«Да мало ли…» – подумал Симон.
– Так я к чему все это, – задумчиво произнес не-Мармеладов. – Пушкин, Гоголь, едва очухался, а тут вы – Бальзак. Прям серия «Живая классика». Верьте, верьте мне, сударь, грядет конец света: природа зациклилась, повторяется, ничего не может придумать лучше. Конец света близится.
– А чем вы занимаетесь? – Симон не чаял души в незнакомце.
– Э-э!.. чем я только не занимаюсь!.. Мечтаю в основном. Грежу. Василеостровский мечтатель!.. Но жизнь, как известно, не жалует мечтателей. Помните, у Чехова: «И куда только не заносит нелегкая интеллигентного человека!»? Про меня сказано.
– Ясно, – сказал Симон, хотя ему было не совсем ясно.
– Лохов дурю, – пояснил не-Мармеладов.
– Каких лохов? – не понял Симон.
– Да всяких, кто попадется. Ленин дурак был, – вдруг сказал не-Мармеладов. – Уничтожил всех богатых, а надо было уничтожить всех бедных – и никаких проблем. Вы согласны со мной, сударь?
– Вопрос философский, – уклонился Симон.
– Ваша правда, – подхватил не-Мармеладов. – Именно что философский. Конец света близится, сударь мой, не знаю даже, успеем ли еще выпить. Ну, твоя очередь, господин хороший, бежать за пивом. Обещал.
Симон поспешно двинулся к киоску. Фруктов бы купить, что ли, подумал Симон и, заняв очередь за пивом, пошел по рядам. Ряды пестрели неопознанными предметами, снова попались на глаза заморские каштаны – Симон загляделся. Сколько? – спросил Симон и полез за кошельком.
Карман был пуст.
Симон испугался, снова испугался, возникло острое желание присесть, расстегнуть ворот, выразить невыразимое – и Симон даже забыл о незнакомце. Вспомнил, бросился назад, к скамейке…
Скамейка была пуста.
Симон вернулся домой, поставил на плиту чайник, включил радио, и радио поведало Симону какую-то чеховскую историю о том, как жители города Энска срезают провода на столбах и сдают их в пункты приема цветного металла и по этой причине город Энск погружен в темноту. Власти повесили новые провода, и новые провода граждане сняли и сдали туда же. Живем в темноте, жаловались граждане Симону (почему-то Симону!). Симон добросовестно внимал и не знал, чем помочь идиотам.
Потом радио сообщило Симону о катастрофе в европейском курортном городе, где погибли люди, имевшие намерение скатиться на лыжах с горы, а не сгореть в фуникулере, но сгорели.
И Симон с отчаянием подумал, что погибли самые лучшие – здоровые и богатые, а больные и бедные остались жить на 6-й линии Васильевского острова и на 7-й. И Симон пошлепал на 7-ю.
– Хорошо, что зашел! – обрадовался Егор. – Говоришь, лишние деньги у тебя?
– Были. – И Симон рассказал.
– Да он у тебя и украл! – воскликнул Егор.
– Кто?
– Да твой Балда, не-Мармеладов, кто ж еще. Василеостровский мечтатель, блин!..
– Да ты что!.. – оскорбился Симон.
– Ты безнадежный, – махнул Егор рукой. – Ну просто лох.
Симон вздрогнул.
И тут до него дошло.
«Лохов дурю». Честно сказал. В лицо. Лохов. А кто Симон есть? Лох. Симон рассмеялся, покачал головой, снова рассмеялся. Надо же, а какое представление устроил – тут и Чехов тебе, и латынь, и Гоголь, и Пушкин… Да за такое представление и денег не жаль! Дорогого стоит. Жить интересно.
– Значит, денег нет… – вздохнул Егор.
– Нет, – подтвердил Симон.
– Жаль, – сказал Егор.
– А что, надумал в Рим поехать?
– К черту Рим. Бизнесом решил заняться. С одним приятелем. Очень порядочным человеком.
– Ну, для этого тебе мерзавец нужен, а не порядочный человек, – заметил Симон. – С порядочным прогоришь.
– Ну, мерзавец быстро найдется, за этим дело не станет.
– А бизнес-то какой?
– Книги издавать.
– Хорошее дело, – согласился Симон.
– Да, – подтвердил Егор. – Детективы. Этакие пособия для киллеров.
– Не понял, – признался Симон.
– А что тут непонятного?
– Решил стать негодяем? Это непросто интеллигентному человеку.
– Непросто, но как там в песне поется: мечтать, надо мечтать детям орлиного племени!..
– Ты шутишь? – с надеждой спросил Симон.
– Ничуть.
– Белены объелся?
– Я еще сегодня ничего и никого не ел.
Симон молча смотрел на друга. Три кита, на которых стоит остров, расползлись в разные стороны, и почва ушла из-под ног. Атланты под балконами сплюнули, и балконы рухнули на бальзаковскую прическу Симона.
– А как же Древний Рим?.. – спросил Симон.
– Древний Рим мертв. Да и кому он нужен, если честно?
– Мне.
– Ну так ты и пиши о Древнем Риме.
– И тебе!
– Мне деньги нужны – собак кормить. Все, дело решенное. И кстати, принимаем тебя в авторы. А что? Давай попробуй. С твоим-то багажом!.. Только предупреждаю: никакой литературы в тексте – вещь испортишь. Все на уровне «мама мыла раму». Не более того.
– Да я такое дерьмо читать не могу – не то что писать!..
– Гордыня! – поморщился Егор.
Симон пытливо глядел на друга, но Егор был серьезен.
– Ты попадешь в ад, – сказал Симон.
– Ну знаешь!.. – усмехнулся Егор. – Это дело такое: попадешь в православный рай – не минуешь католический ад, попадешь в католический рай – гореть тебе в мусульманском аду. Безнадежно.
Помолчали.
– Ну, заработаешь денег, дальше-то что?
– Счастье.
– Счастье – это состояние души.
– Вот именно: заработаешь денег, сядешь в самолет, прилетишь на какие-нибудь Канары, ляжешь на песок – и такое состояние души – доложу я тебе!..
– Знаешь, – сказал Симон. – У меня чувство, что меня обокрали.
– Верное чувство, – согласился Егор.
– И знаешь кто?
– Знаю, не-Мармеладов.
– Нет, ты, – устало сказал Симон. – Не-Мармеладов, можно сказать, заработал. А ты меня обокрал.
Дома Симон постучался к художнику.
– Что делаешь? – спросил Симон. – Окно рисуешь?
– Фильм по видику смотрю.
– Про что?
– Про бедных, больных, дурных и несчастных. Хочешь посмотреть?
– Нет, – ответил Симон. В душе зияла озоновая дыра.
…Но свято место пусто не бывает, и ночью за Симоном приехал трамвай – дзынькнул, фыркнул и покатил по улицам, щедро усыпанным оранжевыми пятнами жерделей, и из окна их старого дома вдруг показалась Грета, замахала Симону рукой, протянула корзину – сливы, Симон! сливы! красивые, как алмаз!.. алмаз! алмаз! – кричала Грета, причем как-то странно произнося это слово – с мягким «л» и глухим «з», – и Симон недоумевал: при чем тут алмаз? какой алмаз? – и проснулся.
Сон разволновал, растревожил, к чему бы это? – подумал Симон и вдруг понял: алмаз! Да-да, конечно, алмаз!..
Звали ее Альмас.
Симон улыбнулся.
– Альмас, Альмас!.. – позвал Симон. И прислушался.
«Если б не было тебя…»
Елене Плугатыревой
– Мы все как-то склонны переоценивать роль искусства, – с досадой сказал однажды (во дни сомнений, во дни тягостных раздумий) один знаменитый режиссер. – «Искусство влияет на людей…» Да ни на кого оно не влияет – что мы там о себе возомнили!..
Ну не скажите, маэстро. Еще как влияет. Фатально влияет. Ну просто ужасно влияет!..
Природа состоит из кривых линий, из несовершенств – из толстых щиколоток, коротких ног, больших носов (в массе). Нет, попадаются, конечно, и тонкие носы, но не в массе, не в одном месте, тут единство времени и места не срабатывает, природа не собирает в одну кучу все достоинства разом – это под силу лишь плохому режиссеру, согнавшему на съемочную площадку длинноногих большеглазых газелей и заставившему впоследствии Юру грезить в кинозале о таком вот райском месте, где он, Юра (состоящий, кстати, из кривых и не совсем совершенных линий), будет стоять в центре, а на него с восхищением будут смотреть немыслимые красавицы, водопадом летящие по ступеням…
Юра объездил много стран (тот фильм был иностранный), но такого райского места так и не нашел. Хотя честно искал, потратив на это жизнь. Но везде были толстые, худые, кривые (все живое – кривое, Юра!) – большое разнообразие в природе наблюдал Юра, не уставая удивляться и печалиться этому разнообразию. Нет, попадались, конечно, отдельные особи, но – не водопадом, подчеркиваем, не косяком, и летели они не к Юре.
Собственно, это рассказ о пагубном воздействии искусства на людей. Рассказ короткий, как наша жизнь, и бесконечный, как жизнь искусства (зри классику).
В юности Вера была без памяти влюблена в Гойко Митича. Вариант глухой, конечно, потому что этому главному индейцу стран Варшавского договора, этому ходячему идеалу мужской красоты, этому кумиру миллионов только Веры и не хватало.
А оказалось, что не хватало.
Но по порядку.
Значит, Вера была влюблена. Страстно. Безумно. Серьезная девушка, прекрасный специалист, и вот такая напасть.
О любви Веры знали все. Настолько все, что однажды об этом узнал и сам Гойко Митич.
Кинозвезда как раз совершала кругосветное путешествие на корабле, на котором волею судеб оказался и сослуживец Веры, такое вот киношное стечение обстоятельств.
Значит, плыл себе сослуживец, и вдруг глядь – Чингачгук Большой Змей на палубе стоит! Собственной персоной. Случай упускать нельзя, решил коллега Веры, другого может и не быть.
Ну, подошел, разговорились (на неважном английском). И коллега через пень-колоду поведал главному индейцу всех времен и народов историю Вериной любви…
Рассказ произвел на звезду сильнейшее впечатление – какая-то девушка из далекого Ленинграда, красавица (коллега Веры настаивал!) – и безнадежно в него влюблена!
В общем, Чингачгук так проникся услышанным, что написал Вере письмо и даже пригласил ее к себе в гости. И расторопный сослуживец сыграл роль почтового голубя, принеся это письмо Вере в клюве.
Но было поздно.
То есть пока сослуживец улаживал ее личные дела, причем так успешно, Вера…
Вера уже любила другого – Джо Дассена. (А вот не надо смеяться!)
То есть вот эту мужественность, это благородство воина, этот честный волевой взгляд и эти серьезные мышцы (которые, по правде говоря, нравятся больше самим мужчинам, нежели женщинам!) – всю эту роскошь затмила собой французская субтильность, рефлексия, кучерявая голова и изящный французский торс. Короче, мужчина в белом. Ну и голос, конечно. О, этот голос. «Если б не было тебя…» А эта улыбка!..
И Вера влюбилась.
Хоть посылай опять этого почтового голубя (сослуживца, в смысле) в новое кругосветное путешествие в поисках счастья девы!..
Но надо сказать, что никто не одобрил такого поворота в сюжете, такого легкомыслия в чувствах: вот оно, счастье, Вера, вот она, встреча, ты что?! Вера?! (Нет, ну ненормальная, да?) Сам Гойко Митич жаждет с ней встречи, а Вера!..
Нет, отныне и навсегда только Джо Дассен.
Но и с Джо Дассеном у Веры тоже не сложилось.
– Не успела, не успела… – печально повторяла Вера, как будто бы успей она, изловчись, смоги – перелезть через тот проклятый железный занавес – и он остался бы жив!
Ну а кто его знает?
Все эти дивные рассказы о Вериной любви Марина рассказывает посреди толкотни и шума в метро, сидя на скамейке где-то в переходе между развилкой поездов на Сенную и Василеостровскую.
О Марине. На ее новом берете два игривых помпона (почему-то кажется, что в таком берете Марина мечтала пойти в первый класс), две кошелки со снедью и редакционными рукописями, которые не горят (да что б они сгорели!) – в общем, две тети после работы присели на скамью, и их затянуло в воронку воспоминаний.
– А ты знаешь, что предки Джо Дассена были из Одессы?!
– И не у него одного. А предки Робера Оссейна, Дугласа!..
– Разве они тоже из Одессы?..
– Какая разница!
Замолкаем, вдруг свалившись в бездну с обрыва мысли: боже мой, это же наши одесские мальчики! И какие мальчики!.. Наши девочки могли их встретить на одесском пляже, куда мотались на каникулах в юности, на каком-нибудь Ланжероне, где «у моря, у синего моря…».
В общем, две уже сильно повзрослевшие девушки сидят в метро и вспоминают время, когда их мальчики косили под героев Ремарка и Хэма, а девочки – под героинь: странные, непонятные, сложные… Сложные мужчины, сложные женщины. Контуженные искусством. И сколько муки было выпито зря!..
С тех пор отвращение и к тем и к другим.
– …Нет, ну как это можно. Ну кто ж не любил Джо Дассена!.. Кто ж не грезил, слушая его «Если б не было тебя…», что он поет именно о ней!.. Но всю жизнь любить мечту, эфир, воздух? Еще пошлее – артиста. Надуманная жизнь.
– Ну не скажи, – говорит Марина. – Да я сама, если хочешь знать, вышла замуж за Цибульского.
– За какого Цибульского?..
– Володька в юности был вылитый Збигнев Цибульский: такой же фейс, очки, прическа ежик и эти ботинки на микропоре, помнишь? Каждый раз из всех командировок я везла ему эти чертовы американские боты!..
И тут, видимо, наступил момент истины.
– Честно говоря, если вдуматься, то и я вышла замуж за мистера Дарси… Мистера Дарси, гордого и предубежденного. А до этого страстно любила графа Альберта Рудольштадта.
– Ну вот видишь. А ты говоришь.
Ну так о Вере.
Марина встретила ее много лет спустя, шагая по улице со своим пятилетним внуком Митей, – и, увидев Митю, Вера остолбенела. Остолбенела, пришла в себя (или не пришла) и закричала:
– Это же Джо Дассен!
Митя улыбнулся тете.
И эта улыбка доконала Веру.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.