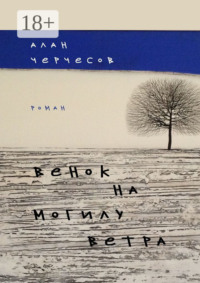Полная версия
Реквием по живущему. Роман
И теперь, глядя следующим утром, как он взбирается вверх по улице, каждый из тех, на ныхасе, думал лишь о надежде на то, что смолчит. Только молчал он недолго – ровно столько, чтоб отдышаться и смахнуть испарину со лба, – и они услышали:
– Это в последний раз. Больше не будет.
А потом они снова долго ничего не слышали, покуда он не сказал:
– Передайте им: в любой толпе сыщется первый. Тот, кто делает первый шаг, или тот, на кого оно может почудиться. Пусть они знают – и первый, и кто другой, на кого оно может почудиться, – больше не будет. А после скажите, что видели мой нож и что мой нож поклялся, что было в последний раз.
И опять они слушали молчание. И, говорят, в тот день да еще в два следующих ни один из них не пустил ребенка на улицу. А он, залечив раны и подсушив болячки, по-прежнему ходил к ныхасу и ничего большего не делал, греясь на остывающем с каждым днем солнце и ковыряя лезвием под чистыми ногтями. И по-прежнему по утрам на пороге натыкался на миску с едой и пивной кувшин, а к вечеру выставлял их обратно, не чувствуя ни злобы, ни благодарности, ни презренья.
Но к зиме кое-что изменилось. Видно, ему наскучило. И тогда он снова пришел к моему деду и спросил:
– Сколько зарядов стоит заяц? Ну, в общем, сколько стоит один заяц в пересчете на те штуки, которыми его убивают?
И дед помолчал и сказал:
– По-разному. Смотря сколько раз в него пальнешь.
И тот кивнул.
– Потому и спрашиваю, – сказал. – Неплохо бы сосчитать, сколько зарядов стоит спуститься к лесу, войти в лес, отыскать зайца, попасть в зайца и принести сюда тому, кто не спускался, не отыскивал и не попадал, кто не потратил на то, чтобы взять в руки подбитого зайца, не то что сил, но даже и времени? Может, ты знаешь?
Дед подумал и сказал:
– Может, и догадываюсь.
И тот спросил:
– И что твоя догадка? Наверно, дорогая?
И дед сказал:
– Не так, чтобы очень. Просто ее по-всякому сосчитать можно, а зарядов каждый раз будет ровно столько, сколько заяц стоит.
И тогда тот прищурился и посмотрел на деда так, словно прикидывал, сколько может стоить сам старик. Только вот, говорил нам дед, никак не понять было, на что он меня пересчитывает: на зайцев или заряды.
Но потом мальчишка кивнул и сказал:
– Согласен. Говори.
И старик мой позвал кого-то из сынов и велел принести свинца и пороху на четыре заряда, а когда тот принес, дед ссыпал все в маленькую быструю ладонь, и ладонь тут же исчезла, а потом, говорил дед, появилась снова, но уже пустая. И дед сказал:
– Только ежели он останется в лесу, тому, кто не спускался, не охотился и даже не промахнулся, будет мало проку оттого, что он не тратил на это ни сил, ни времени. Ежели заяц в лесу останется, тот, кто не спускался, сразу вспомнит про четыре заряда и захочет чего-то взамен. Пожалуй, он захочет новую часть со следующего обмолота.
– Вот уж не думал, что у обмолота столько частей имеется, – сказал мальчишка. – А ты?..
Они помолчали – ровно столько, чтоб у гостя глаза совсем не соскучились на дедовом твердом лице. Потом мальчишка сказал:
– Ладно. Идет. Только покажи мне, как это делается.
И дед показал ему, и рассказал, как надо целить, и даже смазал мозгом ружье, чтобы было по-честному, ибо почти наверняка уже знал, что теперь-то его взяла, теперь-то уж выгорит. А когда человек наверняка знает, что дело выгорит, ему хочется, чтобы все было по-честному – хотя бы внешне, хоть со стороны.
И когда тот ушел, дед кликнул отца и сказал:
– Хватит. Снимай. Нацепишь прежний. Ведь этот не про тебя. Или забыл?
И, конечно, отец помнил, не забывая про то ни на минуту, и потому снял кинжал без лишних слов, но только, говорят, все одно побагровел. «Будто мне усы сбрили, – рассказывал он. – Будто половину лет отобрали. Осмеяли будто…». Ну а деду это как-то вовсе и не интересно было, чтó там отец чувствует и как на него глядит. И два дня, говорят, ишака водили на ближний водопой, как раньше, а дед не замечал и даже за соседский забор не поглядывал, словно в исходе и не сомневался.
Только раз поднялся к ныхасу и кое-что сказал тем, кто там сидел, укутав старость в бурки. А потом, как спустился, уже точно не сомневался, и во взгляде его был кроткий свет. И тогда, говорил мне отец, я впервые задумался о доброте и о том, как она выглядит. Вернее, как выглядит, я знал уже, уже увидел, просто не привык еще. Как не привык думать, что глаза у него могут быть так ненасытно добры, и при этом того не стыдиться. Только, говорил отец, я и не подозревал, что может быть столько добра в глазах, которые всего-навсего тем и добры, что заказанной наперед победой. Так что я от греха подальше запретил себе про то думать.
А на третий день старик велел испечь пироги к обеду и теперь ласково ждал на дворе, глядя на дорогу и спящее солнце над нею. И к тому времени уже всем было известно про слова, что он сперва сочинил, а потом принес на ныхас, чтобы произнести их там и разом успокоиться.
Сказал он вроде бы насчет того, что когда двое о покупке столковываются, третий в стороне стоит. Он просто стоит и смотрит, пока они не кончат. Ведь этот третий, если он земляк и законы помнит, не станет ни с кем ссориться из-за какой-то покупки, даже если у него самого есть что продать. Он не станет мешать, потому что он настоящий земляк и никогда никому не завидует. Он, конечно, умный земляк, а коли так, то знает, что ум всегда виден и всегда ценится, особо когда оба сделкой довольны и уже по рукам ударили.
Вот что он сказал. Не думаю, что больше, но и меньше – вряд ли тоже. И теперь дед сидел во дворе и ждал с охоткой, когда войдет в калитку гость и впервые признает, что проиграл. И, конечно, ждал не только он и не одни мы. В ауле достаточно было глаз да ушей, чтобы ждать. И когда тот наконец появился вдали, те, на ныхасе, уже знали, но старик даже не привстал, чтоб вглядеться – так был уверен. А мы, говорил мне отец, выстроились рядом, по команде будто, хоть никакой команды не было. И каждый из нас тоже старался не вглядываться, только и разговаривать о чем-то был недосуг. Так что глаза нас все ж пересилили, и мы всмотрелись. А потом, как увидели, уже и вымолвить ничего не могли, только взгляд переводили со старика на дорогу, с дороги – на старика, еще и не думавшего сомневаться. И, говорил отец, я не чувствовал ничего, кроме стыда да злорадства. Только стыд быстрее ушел, и когда тот приблизился, осталось одно злорадство, потому как все мы были отравлены…
И он подошел к нашим воротам, отворил калитку и сказал твоему деду:
– С тебя еще четыре заряда.
Все, что сказал: с тебя четыре заряда. А твой дед сидел и изо всех сил пытался не верить, и уж больше не трясся, как в прошлый раз. А потом молча кивнул мне, и я принял из быстрых ладоней обоих зайцев. А потом дед твой еще раз кивнул, и я сходил за порохом и свинцом, а мальчишка уже тянул руку, и я ссыпал в нее. Дед твой глядел ему прямо в глаза и тужился что-то сказать, но вместо него сказал мальчишка:
– Коли нужна еще парочка, лучше бы сразу оплатить. Коли хочешь купить новых двух, прибавь еще на восемь.
И старик дал знак, и мне пришлось снова вернуться в дом и вынести тому задаток. Так что теперь у него было ровно на дюжину зарядов и свинца, и пороха. Если, конечно, на первых двух он истратил все четыре, только сейчас уже и за это нельзя было поручиться.
А когда через несколько дней он вновь открыл нашу калитку, старик скупил уже всех четырех, добавив к намеченной цене половину и еще шестнадцать пуль да мешочек пороху. За будущую охоту. А тот стоял перед ним, нахмурив брови и прикусив губу, загибая пальцы и откладывая в карман карца отсчитанные. Старик глядел на него, раскинув в стороны руки и склонив голову набок, словно чего-то искал, но все найти не мог, словно уж и не помнил точно, что ищет. И выходило, что сделка росла и множилась, как убитые зайцы в нашем дворе, только вот росла она совсем не так, как ей следовало бы. И получалось теперь, что деду нужно было для победы скупить всех зайцев с нашего леса да потом еще успеть дать задаток за следующих, только вот никакая прибавка с никакого надела в нашем ауле не стоила столько свинца и пороха.
И, конечно, говорил отец, дед твой прекрасно понимал, но еще с полмесяца не мог остановиться, тем более что никто ему не мешал: никто не забыл его речь на ныхасе, попросту не желал забывать. И потому помешать уже мог только сам мальчишка (или мы, если б отстреливали зайцев всей семьей с утра до ночи да притом били бы без единого промаха. Только тогда уже нам пришлось бы выменивать по кускам всю землю обратно на те пули и порох, что у него скопились). И, говорил мне отец, все это походило на работающие жернова, перемалывающие наш свинец и подкидывающие взамен заячьи уши. И уж никто опять не ведал, когда это кончится, и значит, в который раз настал черед ожиданья.
Но через полмесяца ожидание смилостивилось и отпустило, вынув занозу из длинных наших дней, и вновь подослало мальчишку.
Он заглянул ближе к вечеру, когда солнце ссыхалось и дед твой сидел на дворе на застеленном кожей чурбане, привычно оглядывая пустой воздух с дороги. И когда тот вошел, старик не шелохнулся, не моргнул, словно привязан был к куску дерева, на котором прежде рубили мясо да дрова и который уж сколько дней кряду застилали с рассвета кожей. И мальчишка сказал:
– Я согласен. Верну по пять за каждого барана. Только они мне к лету нужны.
А дед даже не двинулся и не кивнул, и тому пришлось повторять:
– Пятнадцать зарядов за тех трех баранов, которых ты так здорово откормил, что любой кабан позавидует. Их приведут ко мне, когда степлеет. Но заплачу сейчас. Продавать тебе будет легче, чем покупать. Да и на что тебе столько зайцев?
И дед глядел вязким взглядом в пустой воздух, не отвечая и не шевелясь, будто и не слушая. Тогда мальчишка поманил пальцем, и я послушно подошел и подставил обе ладони, и потом послушно смотрел, как он быстро уходит и как послушно и весело прыгает тень за ним. А потом я вернулся в дом, швырнул мешочек в угол и долго пил воду из кувшина, и вкус был такой, будто долго бежал перед тем. Твой дед сидел на дворе, подставляя спину сумеркам и нашей жалости, и был похож на собственные поминки, хоть мы тогда их еще и не видели. Только все уже знали, что он устранился, да вот смотреть на это было тяжело, все одно как груженую арбу в гору тянуть.
Так говорил мой отец. А дед уж дальше и не рассказывал. И потому про карты узнал я от отца. Было это годом позже, когда Одинокий впервые отправился в крепость, одолжив кобылу у Ханджери и оставив в залог свою часть с обмолота, хотя мог бы оставить уже и что другое. Ну хоть бы мешки с зерном или восемь турьих шкур, которыми разжился за лето, а еще лучше – свое место на нашем ныхасе, или по крайней мере – свое одиночество. Потому что никто его не любил, я говорил уже. А когда он приехал обратно, выяснилось, что даже свертка никакого при нем не оказалось, и было это странно, совсем на него не похоже, так что он снова вроде бы обманул. Ну а наутро поднялся к ныхасу и ничего не рассказывал, и, конечно, у него не выспрашивали. А затем полез рукой в бешмет и достал оттуда колоду. Но наши только глядели и гадали, и была эта штука похоже на него самого: маленькая и непонятная, хрупкая и неприступная, и будто бы хитрее да ловчее всех, кто там сидел. Так рассказывали. А потом он вскрыл ее, вынул карты и разложил на земле перед ними вверх рисунками. И наши глядели на них, пряча пальцы, потея и прикидывая, на что он ее обменяет. Но никому и в голову не пришло еще истинное назначение. И, наверно, кто-то подумал, что это новые деньги русских из крепости, куда дороже тех, что они когда-либо видели или про которые, может, только слыхали. И тогда им должно было показаться, что на эти штуки он собирается прикупить или обменять куда больше того, что даже ему могло удаться, и, похоже, стало им немного страшновато, ибо отец мой потом рассказывал: понимаешь, было так, словно нам диковинного зверя показали или собственное незнание. Показали какой-то секрет, не объяснив его и даже не подтвердив, что то и вправду секрет. Будто бывают на свете вещи, сотворенные руками человеческими и служащие лишь затем, чтобы на них смотреть, ничего не понимать, а потом гадать, как они к черкеске подвешиваются, коли уж ни для чего полезного не пригодны, да ведь с таким мы столкнулись впервые…
А потом он ткнул в них пальцем и сказал:
– Пусть каждый выберет себе одну. Я выбираю эту.
И накрыл камушком ту, где было нарисовано красное пятно. И тогда уже выбрал Ханджери, а за ним Сослан, и после Таймураз, а потом и все остальные. Только дед твой не стал ничего выбирать, но и отвернуться тоже не решился. И мальчишка сказал:
– Запомните, чтоб не спутать, – и сгреб карты в кучу, а затем перемешал и уложил колоду вверх рисунками. А после кивнул Таймуразу, и тот перевернул первую. Они по очереди переворачивали карты – все, кроме твоего деда, – до тех пор, пока старый Агуз не сказал:
– Вот моя.
И мальчишка кивнул и ответил:
– Ты выиграл.
И Агуз спросил:
– Что? Что выиграл?
А мальчишка пожал плечами и ответил:
– Ничего. Просто – выиграл.
И тогда они помолчали, и, говорил отец, будь мы все прокляты, если они не знали уже, что теперь предложит Агуз. И Агуз предложил то самое:
– Пусть камушек будет заместо чего-нибудь, что и впрямь можно выиграть. Ведь повезти может любому?
И когда они согласились, Агуз сказал:
– Ну хотя бы пусть будет бурдюком араки.
И они опять согласились, но мальчишка сказал:
– Нет, у меня нет араки. Ставлю четверть мешка с мукой.
И они кивнули, и дали всем подряд перемешать карты, и, конечно, заставили мальчишку мешать в середине. Только его карта все равно раньше вскрылась. И тогда он сказал:
– Теперь и я ставлю бурдюк…
И опять они их смешали и сложили стопкой у ног, и сказали мальчишке, чтоб тянул первым, и он потянул, и сразу достал свою карту, и стал ножом чертить палочки на земле. А дед твой сидел рядом и сглатывал немую слюну, а на губах его застыло что-то неровное, навроде улыбки.
Он так и не сыграл в тот день, а все глядел завороженно на землю, где тот ровно, густыми порезами, чертил свои палочки, и, говорят, на всякую его палочку приходилось в лучшем случае по половинке палочки у других. И в тот же вечер от двора к двору принялись сновать гонцы с поклажей на спинах, а некоторым понадобилась арба, только вот мальчишка не вынес из дому даже мусора, хоть его ворота дольше других стояли нараспашку, и ему, как всегда, приходилось лишь открывать амбарные двери, когда несли мешки, да провожать к кладовой, если тащили бурдюк.
А потом несколько дней опять ничего не было, и все эти несколько дней они терпели, потому что он будто забыл, будто б ему снова наскучило. Но после они его попросили, и он пожал плечами и принес, и играли уже на утварь да железо. Только наш старик, говорил отец, слава богам, уже устранился и лишь наблюдал, приклеив к лицу бледную улыбку. И то был второй за неделю раз, когда он сидел совсем близко, но умудрился не проиграть. Он сидел совсем близко и следил за глазами, в которых не было даже азарта, одна только вежливость и скука, даже когда он чертил на земле нескончаемый частокол.
И вот опять заспешили гонцы с поклажей, и дом его стал похож на склад, столько там всего набралось. Только ему это было вроде как и неинтересно, и после пару дней его на ныхасе не видели, хоть наши ждали, разгоряченные игрой и отравленные больше, чем когда-либо. И, говорил отец, к нему украдкой подсылали сынов, чтобы справиться о здоровье, потому как просто одолжить колоду духу не хватало. А потом вдруг как-то сразу все заметили, что миски на пороге уже нет, и нет кувшина с пивом, и вспомнили, что не могут припомнить, когда они оттуда исчезли, и, стало быть, не могут припомнить, когда от него отреклись. Только почему-то говорить об этом не получалось, словно об утрате общей или общем грехе, так что, может, теперь его даже и ненавидели, хотя и не все: деду-то моему, должно быть, в чем-то оно и приятно было, будто он с аулом местами поменялся, будто теперь пришла его пора наблюдать да посмеиваться. Но, как ни верти, а дед был тоже состряпан из ихнего теста, и потому разница состояла лишь в этом вот его самоустранении да бледной (не темнее лысины, говорил отец, а ту солнце лишь в день похорон увидало, когда шапка рядом в гробу лежала и дождь еще шел, да ты помнишь – шел дождь, будто совершая повторное омовение, и белый череп словно покрылся весь холодной испариной, и тогда только, говорил отец, идя за гробом, я вспомнил ту его улыбку, вернее, понял, на что она была похожа) жилистой (от самых ключиц тянулась, и жилы на шее дрожали от напряжения, рассказывал мой отец) улыбке, а не в том, что мозги его трудились как-то иначе. Думал он так же, как все – или почти так же, – а эти все думали совсем не так, как тот, кто их обыгрывал. И даже настолько не так, что покамест не предугадали ни единого шага его, ни единой мысли или желания, и, выходит, были обречены.
И было то совсем не невезение (не одно только невезение, не в нем дело), было что-то другое, глубже и древнее, чем просто случай или чужая удача. Было это как рок.
Ибо они не могли иначе. Они могли только двигаться к ней, к своей обреченности, и походя отвергать то, что на их пути стояло. И потому они его вынудили: ведь он не хотел и противился до самой весны. И уже отказывал, даже когда его просили, ссылался на потерю. Но они, конечно, не верили, как не верят в пропажу богатства, что внесли тебе в дом и уложили в твоих закромах, а после уже туда никто кроме тебя и не заглядывал.
Да, думали они совсем не так, как он. И когда к весне стало ясно, что не уступит, нарисовали сами, вырезали кинжалами на тонких дощечках, по памяти восстановив рисунки и выскоблив их на поверхности, а потом смазали с обратной стороны козьим жиром. Так что получилось хоть и коряво, но вполне пригоже, особенно если учесть, что им и выбирать-то не приходилось.
Только дед мой все равно не играл. Он лишь смотрел, кивал головой на всякий выигрыш и ни с кем не ссорился. И, говорил отец, был единственный похож на старика, хоть Ханджери и Агуз родились раньше. И было теперь иначе. Потому что прежде побеждал один, а нынче уж везло нескольким, и тот, кто уходил ни с чем вчера, мог победить сегодня. Кто утром ненавидел, был ненавидим к вечеру, сам не успев остыть от злобы и зависти, а назавтра злоба с ненавистью возвращались, и с победой уходил другой. И не играли уже двое: дед да мальчишка. Только первый не играл оттого, что разучился выигрывать, а второй – потому что не умел, не знал, как проиграть.
Да и наблюдали они по-разному: дед ухмылялся и кивал, наслаждаясь своим равнодушием или тем, что позволяло ему не ссориться и не проигрывать, что позволяло видеть, как проигрывают другие, и быть так близко к чужому везению, что трепетали радостью пальцы. Так что он вроде бы и играл, только не в ту игру, что остальные. Играл сам с собою, одними глазами, и всякий раз побеждал, пусть ничего за то не получая, ведь ему доставало того, что проигрывали другие.
Ну, а мальчишка смотрел по-настоящему. И, говорил мне отец, сперва, пожалуй, ему было занятно следить, как выигрывает не он, и мысленно ставить себя на место тех, кто проигрывал, на то место, где в действительности ни по что бы не оказался. Но нет, говорил отец, вряд ли. Любой другой, только не он. Он ведь мог мысленно поменяться с ними местами еще тогда, когда сам играл. Ему бы ничего не стоило. Ему уже тогда было скучно. Значит, и сейчас не могло быть занятно. Но смотрел он не так, как твой дед, а по-настоящему. Уж не знаю, как объяснить, но только во взгляде его было больше от проигравшего, чем от победителя. В общем, глядеть ему было не то чтобы больно, но будто не с руки, неприятно что ли, а не глядеть он тоже не стал бы, потому как что еще было делать на нашем ныхасе, коли не играть и не глядеть?
Ну а после он все же не выдержал. И однажды пришел туда спозаранку, перетаскав к ныхасу бурдюки и мешки с зерном. А когда все собрались, достал свою колоду и протянул им, чтоб перемешали. Потом они сделали ставки, и он сказал, что ставит все, что принес. Они не поняли и ждали, что растолкует, только он просто махнул рукой и спросил:
– Разве запрещено ставить больше того, что другие? Ведь другие ставят по-прежнему?
И когда каждый из них потянул по разу, но так и не добрался до своей карты, он пропустил свой черед и сказал, что переносит попытку на следующий кон. Никто из них не возразил, говорил отец, лишь дед твой крякнул да перестал улыбаться. И они опять потянули, и первой вскрылась Агузова карта, и пока мешали колоду, мальчишка следил за потным Агузовым лицом, щурился и что-то в уме прикидывал. А все они глядели на него, и никто еще, кроме деда, не понимал.
И они снова сделали ставки и ждали теперь, чтó поставит он, мальчишка, на что обменяет свой проигрыш, ведь для победы прежде ему хватало одной попытки, а он подстраховался и имел их теперь целых две. И будь я калекой, если не вижу их лиц, жаркого солнца и света с горы. Будь я калекой, если там не было палящего солнца, если от света не делалось больно глазам! И я не сын своего отца и не внук своего деда, коли этот свет не ослепил их, коли не размякли от солнца их обманутые азартом мозги. Они же знали, что проиграют! Они просто не могли не проиграть, и даже ему, мальчишке, не удалось бы их заставить, пообещай он им манны небесной, а не то что собственный дом, не то что полный надел фамильной земли. Их ослепило солнце…
Но не только оно. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, я почти уверен: иначе и быть не могло. Он предложил им сыграть, и они согласились, приняв его новые правила. Он предложил сыграть им против своего одиночества – всем вместе, исключая разве что моего деда, да только тот не стал бы играть даже на собственное эхо – не то что на зерно, плуг или подпругу. Он не стал бы играть даже за целое ущелье – куда там старикам малого аула! Ну а те согласились. И не оттого, пожалуй, что всерьез рассчитывали одолеть, не оттого, что тот кинул им вкусную приманку – нет! Не только поэтому. Поймал он их на ином, и это иное вкупе со светом их обмануло. Так оно мне кажется. И когда он сказал им: «Ставлю дом и надел», они уже почти были готовы, ибо давно хотели, но так и не отделались, давно не любили, но так и не смогли ему того простить, были готовы, потому что солнце палило… Готовы, потому что вместе – против одного, но впервые – в открытую.
И он сказал им:
– Взамен на обещание. Одно лишь обещание. Только клянется пусть каждый, ― и они опять не возразили, и он добавил: ― Хочу, чтобы вы забыли. Вернули мне и забыли. Дайте задаток.
И Ханджери вынул из бешмета дощечки и передал ему, потом смешали карты. И, как прежде, тянули все по кругу, пока не настал его черед. А он, говорил отец, когда достал чужую, даже не побледнел, не вздрогнул, не вскинулся (вскинулись да бледнели другие, заработав лишнюю минуту в игре с обреченностью, поддавшись липкому зною надежды, о которой-то – минуте, надежде – им потом и вспомнить без отвращения не удастся). Он только отложил ее в сторонку и сказал:
– У меня есть в запасе еще. Я пропустил прошлую игру.
А затем закусил губу и медленно взялся за следующую (словно выжидая, когда минута кончится), а они глядели, не дыша и изнывая от света, и уже никто из них не походил на старца, даже твой дед. А когда он вскрыл ее и показал им, собрал колоду и сунул в карман, они тихо слушали, опустив головы, как трещат ломающиеся дощечки, как падают им под ноги, и как уходят его шаги.
Но минуло еще немало лет, прежде чем он ушел навсегда, покинув дом и могилы и землю, ради которых когда-то вернулся и едва было не поплатился жизнью, чтобы потом, уцелев, охранять здесь свое одиночество. И пусть он не стоял посреди времени, отслаивавшегося в прошлое аульной памяти, пусть не всегда колол его на куски и пусть часто сторонился, не желая ему мешать, только вот оно, время (теперь-то ясней ясного), сверяло по нему тугие воды свои, подбивая с боков, как крепкий валун, упрямое его терпение, подмывая почву под одиночеством, чтобы в конце концов оторвать его от нашего берега и унести туда, где все для всех начнется с самого начала, туда, где не ступала людская нога триста лет, туда, куда только и суждено было отправиться тайне…
Только было это позже. Гораздо позже. А тогда никто еще и подумать не мог, что он все-таки проиграет, и помышляли наши лишь о том, чтобы если не предотвратить, так хотя бы умалить, не подорвать, так хоть не смириться с вечным его даром (или проклятием) победы. Им надоело. Но в землю стекло еще пару лет, пока они не взбунтовались, и два года скоблили солнцем, вымывали дождями, давили снегом и пылью глушили их гордость, пока не раздразнили ее настолько, что впору было взбеситься и даже забыть о совести, нарушить клятву и растоптать ее копытами купленной в складчину лошади, полудохлой кобылы, что однажды к утру оказалась привязанной к почерневшей коновязи, в полупустом дворе, с охапкой желтого сена под мордой. Да, они купили ему в складчину кобылу. Взамен на свое обещание. Только теперь уже были не дощечки, были пластинки из речной гальки, и играли они совсем не так, как учил их он, хоть суть оставалась прежней. И когда он поднялся к ныхасу и увидел прочерченную по земле дугой линию, когда молча глядел потом, как они швыряют заскорузлыми ладонями гальку, как катятся и переворачиваются, сверкая белым, гладкие пластинки, как они отмеряют пядью расстояние до земляной черты, как хрипло выкрикивают ставки, как в упор не замечают его и давят в горле смех, когда глядел на согбенные азартом спины и цепляющиеся за морщины года, когда слушал голоса, с сипом вдыхавшие воздух, когда стоял перед ними и боролся с собственным криком, когда дед мой сжимал дрожащую палку в руках и был единственным, кто поднял к нему глаза, когда взгляды скрестились в застывшем мгновении и дед вдруг застонал, когда старик разорвал на груди бешмет и судорожно ловил ртом невысказанные слова, когда тот повернулся, пошел, а затем побежал, когда игра даже не прекратилась и стучала галькой по нашей земле, когда захлебнулась она выстрелом да срезанным ржаньем, когда отец мой стоял на пороге и смотрел на падающую за оградой лошадь и быстро тающий дымок, на мокрое лицо с пробившимся пушком и черными глазами, когда вскрикнули в испуге женщины и прогремел гром, – когда все это случилось и хлынула с небес вода, когда она взбучила реку и понеслась на наши поля, когда подобралась оттуда к дому Сослана и своротила забор, пристройку, полхадзара, когда обуял души ужас и заставил уста бормотать молитвы, – тогда они раскаялись и пожалели.