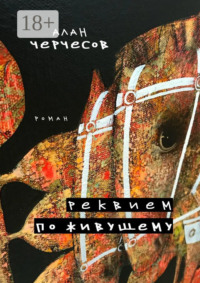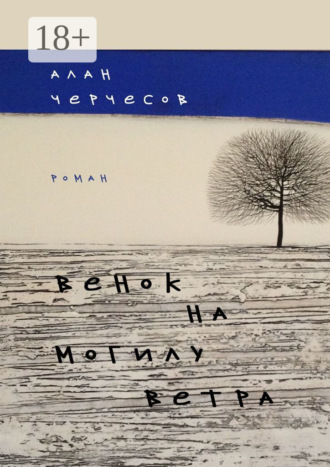
Полная версия
Венок на могилу ветра. Роман
И все-таки возненавидеть чужака Тотраз не мог. Было в том нечто такое, рядом с чем любая ненависть казалась мелкой местью. В нем было трудно ощутить врага, хотя сказать, что Ацамаз им не опасен, было тоже нельзя: всюду, как собственные следы, он оставлял за собой яд сомнения, который проникал в душу Тотраза, разъедая ее хрупкий уют, и тогда все, что было прежде – только что! – ясным, понятным, безмятежным и дорогим, начинало вдруг тускнеть и колебаться.
Как-то раз, во время передышки, чужак отпил из бурдюка воды, потом, заткнув его затычкой, бросил наземь и небрежно предложил:
– Погляди и скажи, на что похоже.
Бурдюк дрожал, волнуясь рыхлыми боками, и очень походил на то, чем, в сущности, и был: на желудок овцы, разве что чересчур полный.
– Не знаю, – ответил Тотраз. – Пожалуй, на большую жабу. Может, на мать ее. Не знаю. Хотя ближе к обеду он для меня будет похож лишь на голод. Так же точно, как вечер, усталость или мозоль.
Хамыц засмеялся, но как-то уж очень намеренно. В последние дни это случалось с ним часто. Смех будто сидел в нем и заранее ожидал подходящей минуты, чтобы вовремя встрять между ними и задуть едва разгоравшийся спор.
– Время, – сказал чужак.
Подобрав камень с поредевшей травы, он швырнул им в совсем было успокоившийся бурдюк и повторил:
– Время, вот на что это похоже. А мы все внутри и думаем, что нас настигла буря, когда какой-нибудь бездельник кинет палкой в его прожорливое брюхо. А потом приходят тишь да гладь, и мы уверены, что то сама милость Божья. А что, если бездельник уснул? Или его укачала скука?
Ответить поспешил Хамыц:
– Коли это и так, нам внутри все равно. Для муравья в лесу проходит вечность, прежде чем солнце сменит ночь, а для неба вечность эта ничтожней мгновения… Время течет по-разному для орла и для курицы. Что в том плохого?
– Он не про то, – перебил Тотраз, и чужак искоса поглядел на него, прищурившись, и удовлетворенно кивнул. – Тут дело не в солнце и муравье, а в реке.
Чужак опять кивнул и, опершись о колено, приготовился слушать.
– Все, что он собирался сказать, это то, что она ни при чем. Дескать, время ей неподвластно, потому что оно не течет, а только катается брюхом по мерзлой траве. И даже не знает, что такое поток. Верно? Потому что его, мол, попросту нет, а есть лишь какой-то бездельник, играющий временем, как бурдюком, и отпивающий лениво из него, когда одолеет жажда. Правильно говорю?
– Почти, – сказал чужак. – Ты говоришь даже лучше. Странно для человека, который не верит…
– Я верю в другое, – Тотраз уже завелся и почувствовал, как у него рвется голос, однако не умолк и не остановился. Речь хлынула из него гневным ливнем, и даже когда в нем остался лишь хрип, для других он звучал, словно эхо: – Я верю в то, что бывает взрыв, и тебя уносит в проклятье, а потом ты живешь, будто слушая смерть, пока не столкнешься с ней взглядом и не поймаешь себя за какую-то тонкую нить, дернешь ее что есть силы и вцепишься в жизнь, словно в чудо. А потом ты поймешь, что такое рождение – настоящее, то, в котором участвуешь сам по себе, где есть только ты, твоя боль, ослепительный свет да еще вот – борьба. Борьба и отчаяние… А потом на тебя нападает тоска, и ты знаешь, повинен в том сам, и тогда ты каешься, молишься, плачешь, ползешь и, все еще слушая смерть, собираешься выжить. Даже если на это придется истратить весь свет, свою кровь, всю тоску и весь воздух в придачу. Ты царапаешь землю ногтями, только б в ней не уснуть. В темной, как сажа, ночи твоя жизнь борется с тем, чем была. Она бьется с собой и со смертью. А потом наступает рассвет, и ты видишь, что солнце с тобою, ты знаешь, что выжил, и, стало быть, больше мир не двинется вспять. Есть только утро, дыхание ветра и птичьи голоса, и ты идешь за ними в день. Ты живой и покорный… И кроткий, а за тобой следит простое солнечное небо, и вы с ним – заодно. И тогда оно, время, распахивается перед тобой, и ты видишь длинный-предлинный след, похожий на отражение – не знаю чего; чего-то большого, как восход в спокойной воде. И отныне ты знаешь, что такое дорога и как к ней идти. Да, оно похоже на прозрачный след, след лучей, но только – когда ты знаешь, как увидеть это… Я видел. И не желаю верить в жабу и бурдюк. Время – не брюхо, оно глаз, прикованный к светящейся дороге. У нее есть начало и конец. До него надо лишь добраться… Свернешь – и оно уже за тебя не в ответе. Это как у путников в горах, связанных одной веревкой. Или как пуповина: перережешь – выкручивайся дальше сам. Тут уж оно тебе не указ, его просто нет для тебя, все равно как тропы для слепого. Только оно-то здесь при чем? Хороший охотник медведя по запаху чует, а плохой его с трех шагов за стог сена принять может, так не медведь же в том виноват! У Тамби из нашего ущелья трава и бурка всегда одного цвета были, Хамыц подтвердит. Но только никто, кроме Тамби, того не признавал. Кто был прав, а? И коли люди говорят, что время идет, а не булькает, то, стало быть, так оно и есть, хоть для кого-то оно бурдюк с подпревшей водой… Не знаю, отчего это кому-то так хочется, чтобы оно брюхом казалось, только я в такое не верю. Пожалуй, не поверю никогда…
Выговорившись сполна, он тяжело дышал, словно гонец, пробежавший расстояние ценою в собственную жизнь, чтобы передать известие ценою в вечность. Хамыц поднял с земли бурдюк и предложил ему напиться. По его нарочито небрежному жесту было ясно, на чьей он стороне. Что до чужака, то он даже не сменил позы и все так же сидел, опершись о колено, и смотрел на них с улыбкой, в которой читалась если не усмешка, то неподдельное удовольствие спорщика, убежденного в своей правоте. Стало быть, Тотраз выплеснул хоть и много, но все же явно недостаточно, чтобы его смутить или, по крайней мере, заставить отложить свой ответ.
– И где оно находится, твое «никогда»? Впереди или сзади? Рядом с «когда-то» или под боком у «когда-нибудь»? И что такое твое вытянутое в колею время, если прежде «никогда» для тебя значило то, что теперь превратилось в «недавно»? Ведь никогда раньше ты и не думал, что когда-нибудь окажешься у Проклятой реки, как никогда не знал, отчего она проклята, как не знаешь и теперь, почему она к себе никогда никого, кроме склепов, не подпускала, а вот тебя – сберегла, не отравив и не спугнув? И почему еще вчера ты твердо знал, что мне не быть для вас соседом – никогда, а уже сегодня сам мне помогаешь возводить стены дома? Что такое твое «никогда» и твоя озаренная светом дорога, если всякий раз ты натыкаешься впотьмах на яму из «когда-то»? Сколько сотен твоих «никогда» уже превратилось в эти «когда-то»? Что до бурки и травы – так в ночь они и впрямь одного цвета, а вот какого цвета твое простое солнце, ты скажи? Красного? Желтого? Золотого? А может быть, белого или розового? И какого цвета оно, когда отовсюду обложено тучами? Ты можешь назвать его истинный цвет? С чего ты решил, что время глупее тебя? Будто оно ползет себе, как груженная всеми грехами повозка, по дороге, которой не видно конца? Где ты видел дорогу, у которой бы не было двух хвостов, как двух «вперед» и двух «обратно»? Почему ты решил, что возвращаться назад дозволено лишь людям? И разве ты, спеша вперед, не обернул для себя время вспять? Спроси у Хамыца, что древнее, ружье или лук? Вода или масло? Хадзар или хижина? Река или мост? Камни или пашня? И куда мы сейчас идем – вперед или назад? Бежим или пятимся? И даже будь выстроен здесь целый аул, войдем мы в него как в твой прозрачный светом день, или просто вернемся туда, в тот миг, из которого выросли склепы? А может, в том и разницы нет? Тогда где же стрела? Где загадочный след восхода? Где направление? И где дорога? Веди туда, если знаешь ответ. Я не против. Только, сдается мне, для вас что вперед, что обратно отсюда податься – все равно что выбирать между огнем и студом. А потому сидите вы здесь, в подмышке этого самого времени, которое – куда захочет, туда и потечет, и из любого будущего может в два счета сотворить еще одно прошлое, а после любое прошлое вмиг превратить в настоящее, и потом завалится спать на пару веков, а проснувшись, выпьет его без остатка, сохранив на самом донышке только капельку будущего и мутный осадок того, что уже состоялось не раз и въелось во время настолько, что вынырнет ржой везде, где забьется волна. А ты говоришь!.. Нет, ты путаешь время с надеждой. Все мы путаем их иногда. Чаще – всегда… Вот тебе и еще одно слово – «всегда». Подумай над ним. Оно лишь изнанка твоего «никогда», это как перед и зад. Два разных бока у нашего бурдюка. Они впору друг другу так же точно, как тело и тень, только порой меняются местами. Разве нет? Ты говоришь мне, что время идет. А я говорю, что – не только. Еще оно движется, спит, убегает, уходит, стоит, сотрясается и поджимает… Пожалуй, еще и лежит, будто старая сука. Растекается, думает, мстит, повторяет себя, повторяет других, уползает в нору или жалит… Два вопроса: куда оно движется и – для чего? Ты полагаешь, оно это знает. Знает всегда, хоть никогда толком не объясняет. Я говорю почти то же: не знает оно никогда, а потому всегда не может объяснить. Вот и вся разница. А что до охотников – так и здесь ведь бывает наоборот: кто-то медведя за стог примет, а кто и стог – за медведя. А коли и впрямь медведь перед ними вдруг в трех шагах оказался, то тут уж поди разбери, кому из них проще… Впрочем, кажется, зря я это все говорю, ведь ты так и так не поверишь. Ни за что не поверишь, даже если опять у тебя что-то взорвется внутри и ты увидишь вместо дороги пятно пустоты.
– И будет прав, – вдруг вмешался Хамыц. – Потому что верить в то, что ты говоришь, значит не верить вовсе. По мне, так нельзя, даже если время и вправду – плешивая сука. Только это все-таки вряд ли. И коли нам в самом деле уразуметь не под силу, где тут перед, где зад, куда оно течет и отчего засыпает, так то, мне кажется, совсем не наше дело. А наше – строить дом, пахать и сеять. Слушать землю да звезды читать. Наше дело – перезимовать и выложить мост, вот и все. Наше дело – только взять у жизни свое и не расшвыриваться им перед тем, что никогда нашим не станет. Я так полагаю.
Чужак задумался. Он долго ничего не отвечал, и им показалось, что молчит он не потому, что никак не найдет, чем возразить, а оттого скорее, что возражать не хочет. Переждав еще с минуту, Хамыц поднялся и направился к выложенной вполовину стене. За ним поднялись и остальные. У друга багрово горела выползшая из-под нахлобученной на затылок шапки отметина, по ней им было ясно, что теперь он остынет не скоро.
До самого вечера им почти не пригодились никакие слова. После работы, наскоро разделавшись с ужином, они распрощались, и вскоре женщина и Хамыц остались наедине. Сегодня он чувствовал к ней неподдельную нежность, которая была правдивей и проще любви, потому что могла целиком уместиться в молчание. Лаская жену, он повсюду слышал под пальцами ее доверчивое сердце. Еще он слышал запах благодарной влаги на ее глазах. Не зная, что такое время, он знал, что такое сейчас, и в этом сейчас он был по-настоящему счастлив.
Он долго не мог заснуть. Женщина давно спала, уложив голову ему в предплечье, и кожа на ее лице матово поблескивала, когда угли в очаге вдруг вспыхивали искрами. Осторожно, чтобы не разбудить, Хамыц выпростал руку из-под ее теплого сна и тихо вышел за порог. Ночь низко дышала звездами, но, в сущности, была такой же, как и любая другая под голым небом. Далеко внизу шумела река. Дважды проклятая, как утверждал чужак, и все-таки неотравленная. Вода не убила ни их, ни коней, ни надежду. Река даже снабдила их плитняком, помогая выложить эти вот стены. А до того никого и близко не подпускала, словно и вправду была больна, двести лет тоже была больна и потом, осознав, что обречена, проложила себе новое русло, сметая прошлое, от которого подцепила болезнь и которому давно отомстила, не оставив ничего от него, кроме каменных струпьев на своем беспокойном теле, и умирала потом еще сотню лет, обрастая с боков травой, как могила – бурьяном, и потом все это вдруг стало неправдой, обманом (чума, отрава и вода, которую не пили даже звери, которая обязана была убить, но не убила), потому что она, река, напоила людей и коней чистой свежестью и пустила их в свое лоно, снабдив и глиной, и плитняком, а еще прежде – бродом, проверяющим на прочность тех, кто не успел прихватить сюда с собой ничего, кроме собственного греха, и нынче уже сложил для него хадзар. Так что река оказалась здоровой. Она оказалась здоровой и отдала им все, что только могла дать взамен на их тайну, и ждала ее триста лет, будто ей не хватало своей – загадки неотравленья, благодаря которой она не только уцелела и выжила, но и заставила обвал выдолбить для себя новое русло. И тогда скатилась холодным потоком в отравленную пустоту, разделываясь с ее домами, склепами и костями, вымывая камнями чуму, скосившую давным-давно всех до единого, до последнего мужчины и последней женщины, которым отчего-то река ни в чем не помогла, если только пыталась помочь, но она, похоже, и не пыталась, и потому стала проклятой как сам источник заразы, но только все это было неправдой, и была она проклята лишь собственным здоровьем, несущимся громким потоком посреди болезни, раскинутой на целых двести лет по обоим ее берегам. И может быть, спустя те двести лет, в какой-то миг, устав от пустоты и одиночества, она даже хотела заболеть – наравне с остальными, хотела так сильно, что в конце концов не стерпела и выбросилась на болезнь, разливаясь по берегам, где та поджидала ее вот уже двести лет и думала, что тоже отравит, только из этого опять ничего не вышло, и тогда река, уже потерявшая невинность и даже дважды проклятая – своим здоровьем, отдалась тем, кто мог наконец взять ее извечную чистоту и укрыть на ее берегу свою тайну и грех…
Хамыц думал о том, что в сегодняшнем споре неправы были оба – и Тотраз, и чужак. Один – потому что слишком доверял судьбе и небу, другой – потому что не доверял им совсем. Истина, однако, лежала где-то посредине. Размышляя о том, что случилось с ними в последние месяцы, Хамыц приходил к выводу, что все начинается в тебе самом. Сперва ты влюбляешься, потом теряешь голову и решаешь похитить ту, кто заслонил от тебя не только целый мир вокруг, но и твой собственный разум, ты действуешь как во сне, наобум, потому что что-либо рассчитать тебе уже не по силам, ты просто делаешь то, чего не сделать не можешь, а в это время рядом с тобой оказывается друг, оказывается по той же причине: не может иначе, а потом этот друг стреляет в выскочившего из-за угла слепца, приняв за ружье его клюку, и тут же сам получает пулю в плечо, но вас уже ничто не остановит, вы мчитесь двое суток по едва знакомым дорогам, пока и вовсе не очутитесь где-то на самом краю земли под сытым звездами небом и не выясните наутро, что эта земля мертва. А может, даже «мертва» для нее не подходит, ибо, судя по склепам, смерть тоже отсюда ушла, не выдержав безделья и скуки, а спустя недели и месяцы вы все еще здесь и чего-то по-прежнему ждете, пока твой друг не найдет в голых скалах орлиное яйцо и все вы, не сговариваясь, признаете в нем знамение и посеете его в том месте, где решите выстроить дом.
Но только решите-то раньше! Вот в чем вся штука. Все начинается в тебе самом и только потом утверждается небом. Судьба не там, где ты слышишь знамение, а там, где ты слышишь себя. Слышишь так, что упрямишься перед голосом разума и поступаешь вопреки его подсказкам, а потом вдруг приходит знамение и расставляет все по местам, и ты говоришь: судьба…
Но и чужак не прав: он совершает ту же ошибку, что и Тотраз. Он говорит, что время не имеет смысла. Так может заявить лишь тот, кто этот смысл искал. В том и есть его ошибка! Это как с ветром: все равно что искать глазами его исток или пытаться по запаху найти его могилу. Чем больше ищешь, тем меньше понимаешь в рождении его и смерти. Не лучше ли просто в жару подставить под него лицо или укрыться буркой в холод?
Хамыц стоял, обхватив плечи руками, и смотрел, как из ущелья уплывает влажной дымкой пар, высвобождая пространство для глаз и рассвета. Снизу к нему поднимался, хромая, серебристый силуэт. Признав в нем пса, он усмехнулся, вообразив, как заволнуются сейчас проснувшиеся лошади. Пес шел не прямо, а петлял, словно старался представить все как случайность. В отличие от Тотраза, Хамыц относился к нему неплохо и без предубеждения. В сущности, его присутствие здесь Хамыца даже радовало: наличие пса, появившегося невесть откуда, тоже служило знамением, и это было хорошо. «На то они и нужны, знамения, – подумал Хамыц, – чтобы показывать нам, что все идет своим чередом. Прямо ли, криво, вперед ли, назад – не имеет значения. Главное, что идет своим чередом, и как бы при этом ни притворялось, все равно рано или поздно послушно доползет туда, куда нам надобно. Все как с этим псом: сколько бы ни петлял, а идет он сюда, и я это знаю…»
Глядя, как пес подбирается ближе и ближе к их дому, Хамыц вдруг подумал о том, как много вещей открывается с каждым рассветом. Теперь он знал гораздо больше, чем прошлой ночью или прошлым днем. Он знал, к примеру, что Тотраз стрелялся, и понял это потому, что вспомнил вдруг тесемку, запутавшуюся вокруг разбитого приклада, и слово «взрыв», и то, как налило оно кровью шрам на лбу; он знал еще, что друг его отныне никогда того не повторит, потому что верит в жизнь и время; еще он знал, что тоже верит в чудо, хотя не так, как друг, потому что чудо – не гром и не алтарь, перед которым падают на колени: оно просто подарок из кармана судьбы, которую творит не столько небо, сколько твое собственное упрямство и ей же, судьбе, непокорность; он знал еще, что быть ему отцом, и что младенцем будет мальчик, и знал, что будет это вопреки всему, что может сделать с женщиною страх, потому что в нем самом, в Хамыце, его нет и не будет. Еще он знал, что урожай взойдет и будет новый мост, и новые дома, и много испытаний, и знал, что через них пройдет, надеялся, что без потерь, и почти знал, что в это вот уже не верит…
Пес подошел к нему, обнюхал для порядка и, отойдя на шаг, уселся на холодную землю, покрытую густой синевой в этот предутренний час. Они смотрели друг на друга долго и в упор, не отводя глаз, и человек с одобрением отметил, что способна на такое лишь редкая собака. О чем думал пес, было не понять. Возможно, тот думал о том же самом, но только – применительно к человеку. Дом все еще спал, укутанный в тепло, и по-прежнему спали нечуткие кони.
– Выходит, мы поделили с тобой его пополам, – сказал Хамыц, обратившись к псу. – Это утро. Оно принадлежит лишь нам, тебе да мне…
Дрогнув ушами и высоко задрав морду, пес всерьез внимал тому, что говорил человек. Похоже, он был с ним согласен.
XVIII
Никогда раньше люди не видели такого обильного снега. Он выпал сразу, в ночь, и в таком невероятном количестве, что, если бы не чужак, не успевший навесить дверь в своем доме, остальным было бы просто не выбраться. Пока Ацамаз пробивал дорогу к хадзару соседей, пес полз за ним, погружаясь по уши в снег и поминутно фыркая белой, словно усыпанной мукóй, мордой. На то, чтобы разгрести снег перед входом, у них ушло не меньше часа, после чего промерзший до мозга костей чужак уселся у очага, сунув чуть ли не в самый огонь свои одеревеневшие пальцы. Тело его непрерывно дрожало, будто кто-то невидимый тряс его, схватив за грудки. Пес улегся с ним рядом и быстро-быстро дышал, высунув язык и распространяя по помещению горький запах мокрой шерсти. Когда женщина незаметно приблизилась, у него впервые не хватило сил, чтоб на нее зарычать. Оставив на полу, сбоку от чужака, дымящуюся миску с бульоном, она шмыгнула на женскую половину и стала ждать, когда двое друзей управятся с лошадьми и вернутся в хадзар.
Примкнувший к дому с южной стороны навес, сработанный из тех же веток и тростника, что уже дважды до того шли на шалаш, ночью рухнул под тяжестью снега. Чужака хватило на то, чтобы отвязать коней и вызволить свою кобылу из-под обломков скудной крыши, заваливших все пространство вокруг. Разгребая слипшиеся от мороза ветви, он увидел, что повод, которым была привязана лошадь, лопнул и застрял, примерзнув между спутавшимися ветками, покрытыми, как стеклом, коркой льда, в который застывало много часов кряду дыхание испуганной кобылы. Ногами раскалывая этот прозрачный слепок страха, чужак понимал, что поспел как раз вовремя: стоило кобыле мерзнуть вот так, почти без движения, в хрустальном плену хвойных веток еще хотя бы час-другой – и ей уже не жить. Только освободив коней, он стал пробивать себе проход к двери хадзара. Он все сделал правильно. Теперь был черед друзей.
«Холод, – думал он, – что может быть хуже? Главный враг всего живого – холод. Я наглотался этого добра с избытком. Во мне сейчас его больше, чем огня в очаге…» Неловко обхватив ладонями миску, проливая на себя ее содержимое, он сделал несколько глотков – словно наугад, не успев даже обжечься глоткой, – а потом, разом опрокинув ее в себя, посмотрел, проверяя, на пустое дно и уронил миску на пол.
Глядя на него из своего укрытия, женщина подумала о том, что в своей дымящейся паром бурке он похож на серый столб, устремленный сквозь крышу вовне. Быть может, нынешним утром он спас им жизнь. Если так, случилось это уже не впервые, но размышляла она о том почти безучастно, по-прежнему не испытывая к этому человеку ни доверия, ни благодарности, разве что ощущала где-то очень-очень глубоко в себе какую-то слабую, ненастоящую, злорадную жалость. Она и не знала, что в ней живет такая жестокость, но по отношению к чужаку каким-то упрямым наитием женщина ощущала, что жестокость эта простительна – быть может, потому, что его ею не прошибешь.
Пока они втроем сидели в запертом снегом доме, никому из них не пришло и в голову, что он может не прийти, а придя, может не справиться. На сей счет они были спокойны, и только двое мужчин переживали за своих коней, не думая, однако, что к ним на помощь чужак придет раньше, чем к людям: лезть в одиночку в завалы навеса было слишком рискованно, они слышали это по обезумевшему хрипу и ржанью, время от времени раздававшемуся за стеной. Когда же по новым скользким звукам они различили, что он уже там, мужчины лишь пожали плечами, и по их лицам женщина поняла, что такой оборот их вполне устраивает. По сути, это означало лишь то, что они пробудут в тепле дольше, чем рассчитывали, чтó в том плохого?
В их отношении к чужаку была общая странность, в которой каждый из них, включая женщину, похоже, не отдавал себе отчета: всякий раз, как пришелец оказывал им услугу, они воспринимали это как должное, словно он совершал то, что был обязан совершить, как если бы по своей воле взялся безропотно и вечно отрабатывать право жить на их земле, и даже когда услугой оказывалась спасенная жизнь, пусть помноженная на три, а то и на пять (если считать их коней), – в том не было опять же ничего такого, за что они должны были его благодарить, ведь не придет же никому на ум благодарить возницу за то, что тот вписался в горный поворот, или бесконечно возносить хвалу кузнецу, починившему треснувший лемех…
Произошло это не сразу – постепенно, прорастая сквозь ежедневие все больше усугублявшейся ими от него отстраненности, как бывает, когда вместо ушедшего в смутную даль человека приходит ленивое творчество памяти, сохранившей от целого образа какой-то единственный штрих, простейший мазок, прямой и короткий, как прозвище. А потом все случается как бы само собой: человек возвращается, и тут уже не мазок сверяют по нему, а, напротив, его самого примеряют к мазку и удивляются, если вдруг непохоже.
Поскольку чужак никуда от них не уходил, им удалось лишь обложить его камнями, отгородившись от него двойной завесой из стен и чередой удачных дней, в которые получалось не приглашать его к своему очагу, предусмотрительно снабдив его погреб (едва была готова крыша) примерно четвертью запасов из их собственного и словно бы надолго наперед откупившись от его присутствия. Все вышло так, как хотели они, а потому им казалось, что он проиграл. С ним рядом всегда было так, будто нужно не проиграть. С ним рядом было так, будто он никогда не выигрывал. Так, будто выиграть он не имеет права, а стало быть, допустить того никак нельзя. С ним рядом было так, что лучше бы его рядом не было, а потому, спасая их, он словно бы платил за то, что они терпят его рядом с собой – его самого и настырную его, непостижимую готовность проигрывать вновь и вновь без всякого, однако, сожаления о том, что проиграл. С ним рядом было так, как бывает рядом с неудачником: чуть брезгливо, но и как-то безопаснее – если суждено стрястись беде, ты знаешь, что жертва для нее уже выбрана и эта жертва не ты.
Впрочем, на жертву чужак не походил вовсе. Была в нем какая-то сила, которой с избытком хватило б на то, чтобы снабдить необходимым мужеством и сноровкой десяток упрямцев из самых неробких. Не заметить ее было нельзя. Наверно, поэтому женщина и говорила, что от него пахнет воском, как от мертвеца: обрести такую силу на этом свете было попросту негде. Да и на свете ином она открывалась не сразу и не всем. По крайней мере, Тотраз, который уже бродил у смерти в ее пустынной прихожей, ничего оттуда не вынес, кроме неуемного стремления жить и столь же страстного неприятия того, кто явно жить особо не стремился, а делал это словно по досадной необходимости, которая и вывела его сюда, в тот уголок земли, где смерть и жизнь разделяли лишь буйство Проклятой реки да прихоть капризного ветра, туда, где они, люди и склепы, день за днем вот уже девять месяцев следили друг за другом, гадая, чтó произойдет, когда им доведется пересечься в невидимой пропасти времени, медленно просыпавшейся эхом ожидания у них за спиной.